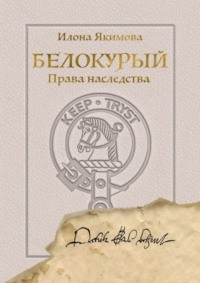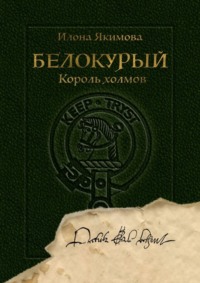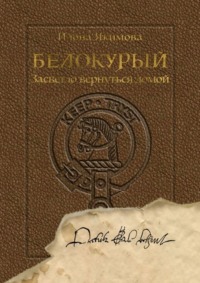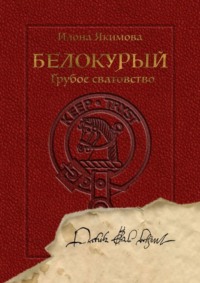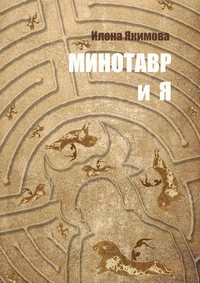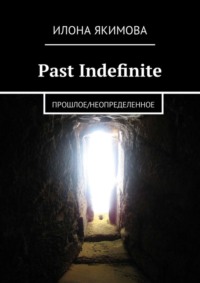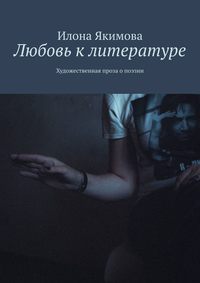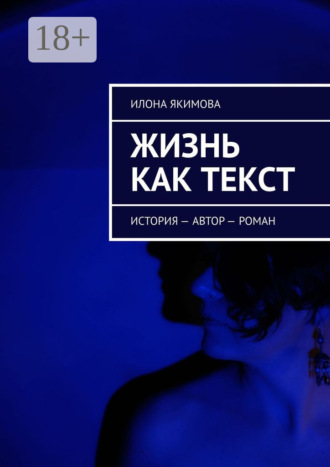
Полная версия
Жизнь как текст. История – автор – роман
Исторический роман – как та тропинка, от которой Бильбо Беггинс предостерегал своего племянника Фродо. Никогда не знаешь, куда она заведет. Хоббита она провела от себя самого к себе самому мимо жерла Ородруина, у писателя та же доля. Невозможно ступить на эту дорожку, не будучи с юности очарованной сиренами. Василий Ян, Алексей Толстой, Генрик Сенкевич – глашатаи, пришедшие первыми. Дрюон в «Проклятых королях» потряс чеканной точностью изображаемого века – не в подробностях, но в общей картине, хотя местами уровень его иносказаний был тяжеловат для подросткового ума (но было бы мне тогда лучше обнаружить подробно-натуралистичные описания войны и насилия вместо метафоричный и весьма умеренных – большой вопрос). Ян пах чуждостью степей, кожей седел, запекшейся кровью, нагретым железом, неотвратимой безжалостностью судьбы. Толстой показал царя как человека, персонификацию абсолютной власти как уязвимое, плотское существо. «Мария Стюарт» Цвейга, напротив, удушила немецкой сентиментальностью и родила во мне (не вполне неверное) ощущение, что в политической трагедии властителя определяющим фактором является его личная человеческая глупость. Первохристиане Сенкевича, тени верующих в каменоломнях, апостол, бредущий обратно в Рим на смерть, затмились великолепным Петронием, сочетающим хрустальной чистоты сарказм с истинно неколебимой волей (и силой) – и привели меня не к вере, но к римскому сатирическому роману (да, я отправилась читать «Сатирикон», и прочла). У Сенкевича меня, пожалуй, впервые настигло проклятие героя второго плана, который более привлекателен, нежели тщательно выписанные и оттого слегка перелакированные образы плана первого – уверовавший патриций и непорочная дева. И все же люди Евангелия были у Сенкевича совершенно понятными и человечными, несмотря на стоящие между нами тысячелетия. Подобное ощущение не веры, но полной правдивости рассказа о библейском меня догнало второй раз на Евангелии от Булгакова, в «Мастере и Маргарите».
Совершенно особое место занимает среди работ титанов трилогия Валентина Пикуля о XVIII веке – «Слово и дело», «Пером и шпагой», «Фаворит». Влюбилась в эпоху я благодаря именно этим трем книгам. В нынешние времена Пикуля модно бранить (да и мыслимо ли любить нынче автора «Агонии»? ), а, между тем, те, кто ставят в классики исторического романа Дюма, не должны бы морщиться и на Пикуля. Для популяризации русской истории он сделал не меньше, чем бойкий француз для легендаризации французских головорезов раннего нового времени.
Античность для меня была открыта Иваном Ефремовым и «Таис Афинской». Пусть там не та античность, которую одобрят современные историки и археологи, но упоительная греза о ней, однако оно сработало. Мэри Рено после прививки такими классиками, как Ефремов, Дрюон и Пикуль, дала мне непривычно телесное ощущение хорошо знакомого мифа. Два ее романа о Тезее произвели существенный переворот в моем отношении к написанию исторического романа. Понятно, когда пишешь о реальных людях, биографию которых можно, пусть с лакунами, поднять и восстановить, но чтобы о мифологическом герое? Сейчас такие книги называют модным словом ретеллинг. Пожалуй, у Рено я вторично ощутила привкус, отчетливо пьянивший в «Таис Афинской», и снова подумала: «а что, так можно было?!». Но Тезей – это ведь еще и куда дальше во времени, чем Александр, и Рено тут выступает не просто писателем, но этнографом и культурологом. Она буквально течет речью по лезвию, излагая свою версию событий, но не срывается ни в чем. Из предположения об облике героя (не соответствующем каноническому), из конфликта между внешностью и предназначением, ожидаемым от героя поведением, Рено, как фокусник дракона из шляпы, извлекла лучшую реконструкцию мифа о Тезее, которая мне встречалась, реконструкцию в виде исторического романа, живой истории. Ее версию событий я использовала, в том числе, в пьесе «Минотавр и я».
Линию живой истории для меня продолжила тюдоровская Англия в исполннии Розалин Майлз, Филиппы Грегори, Элисон Уэйр. Положим, когда, в отличие от античности, немного знаешь предмет вопроса, то лучше видишь натягивание английской совы на тюдоровский глобус (да что уж там, и Питер Акройд тому прекрасный пример, а он ведь дает нон-фикшн в своих томах по истории Англии), и я не во всем согласна по изложению событий с упомянутыми дамами, однако они, безусловно, представляли собой мощный этап моего самообразования как писателя.
А оттуда было уже полшага до приграничной Шотландии.
«Был он человек самобытный, не чета прочим». Мой исторический реализм сложился, как ощущение, именно из этой мощной фразы Валентина Пикуля. Самобытность, яркость, самость, отдельность, рост (в психологическом разрезе века) выше среднего – вот что для меня определяет героя, о котором мне интересно говорить и писать, вне зависимости от страны его проживания.
Чужая своя история
Зачем арапа своего
Младая любит Дездемона,
Как месяц любит ночи мглу?
А.С.Пушкин, «Египетские ночи»
Мало написать хороший исторический роман – ты поди продай хороший исторический роман. А в процессе продажи еще сто раз объясни профессионалам и любителям, зачем непатриотично пишешь не о России.
Этот вопрос мне задавали неоднократно. Не один вопрос, а множество вариаций: кому здесь нужна эта ваша Шотландия? Что Шотландия пятисотлетней давности может дать сегодняшним россиянам? И, наконец, зачем русской женщине XXI века потребовалось рассказывать историю шотландца, умершего 500 лет назад? Последнее спросил у меня native англичанин, любящий русскую культуру, но всерьез озадаченный выбором темы.
С последним вопросом проще всего. Так получилось. Темы почти всегда находят автора сами, но чаще всего это действительно темы из прошлого. Время не делится для меня на прошлое, настоящее и будущее, в смысле бытийности, вещности, существования оно для меня всё – настоящее. И я живо всем этим настоящим интересуюсь. Я родом из литературной школы прошлого века, и школа эта в основном состояла более из книг, чем из очного обучения у мэтров. Я привыкла думать, что новая книга тогда только имеет право на существование, если дает читателю возможность: узнать что-то новое; прожить что-то новое; по-новому взглянуть на окружающую его действительность – иными словами – заставляет работать мозг, прокладывает свежие нейронные связи.
Поэтому мне сложно с книгами для «комфортинга» (ужасающий термин). Я понимаю людей, которые их пишут и читают, и далека от того, чтобы осуждать тренд, его создателей и поклонников, и понимаю, почему в трудные времена (когда, впрочем, в России они были простыми, хотелось бы посмотреть хоть одним глазком?) подобная литература особенно востребована. Но, увы, не мной. Мне скучно – штампы отношений, побег в фентези с драконами (добавить азиатчины, смешать, взболтать, присыпать эротикой), мечты о бесконечном хотении героини принцами, о бесконечном поглощении принцесс героями. Меня это ничему не учит, скорей, меня оно тупит. А вот роман, написанный в жанре исторического реализма, как раз имеет существенный шанс и просветить меня, и научить, и заставить взглянуть на старые вещи по-новому, просто потому, что хороший исторический роман – это, в первую очередь, достоверная психологическая проза. А поскольку я пишу только те книги, которые мне интересно читать самой, ответ очевиден.
Что же до чужой истории… Если бы у меня в молодости была возможность работать в российских архивах, мой первый исторический роман был бы посвящен птенцам гнезда Петрова. Но простота поиска информации через сеть привела совсем к другому герою. Не бывает чужой истории. «Чужая» история – фикция, призванная разъединить людей по принципу свой-чужой, превосходно работающая на образ врага. Они тупые, мы умные, немытая Европа против мытой Руси, и тому подобное. Подобные соревновательные высказывания неизменно приводят на память ситуацию из рассказа Ромена Гари «Гражданин голубь»:
Всякий раз, когда гид показывал нам какую-либо достопримечательность, Ракюссен считал своим долгом заметить: «То же самое есть у нас в Соединенных Штатах» – и, как правило, добавлял: «Только лучше». Он говорил это в Кремле, в Музее Революции, а также в Мавзолее Ленина.
Вместо того, чтобы повторять «у нас есть такое же, только лучше» в мавзолее Ленина, не стоит ли искренне восхититься чужим культурным наследием, тем паче, что и не чужое оно – общемировое? Можно считать, что книга не о русской истории нам не нужна. Но обогатит ли это русского читателя? Наверное, я оптимистично думаю о согражданах.
И все равно время от времени раздается возмущенное воззвание: но не о России-то почему? Непатриотично! Оно понятно, исторический роман обладает мощнейшим пропагандистским потенциалом по созданию приличного образа прошлого своей страны. К этому призывать почтенно и должно, к этому, собственно, и призывают. И он же, исторический роман, обладает столь же мощным культурным потенциалом совершенно возмутительного свойства – вочеловечивает потенциального врага, у которого все должно быть хуже, чем у нас. И именно эта гуманистическая задача мне особенно симпатична. Враг перестает быть врагом, в нем можно разглядеть другого. С другим можно договариваться, тогда как врага принято убивать.
Между приграничной Шотландией XVI века и современной Россией можно найти достаточно культурных параллелей, позволяющих обсудить вопросы самого разного свойства без нарушений свойственных нашему времени приличий. К примеру, приграничные баллады, которые собирал и публиковал Вальтер Скотт, все эти «песни границы», по сюжету порой до боли напоминают русский блатной фольклор – полюбила вора дочь прокурора (в общем, все умерли). В битве при Флоддене различительные знаки (красно-белый крест святого Георгия и сине-белый крест святого Андрея) приграничных англичан и шотландцев были закреплены на одежде крайне небрежно и легко слетали наземь при малейшей активности. В атаку приграничники с обеих сторон шли нехотя, а ближе к точке сшибки с противником тормозили, переходили на шаг, вовсе останавливались, делали вид, что метают копье… но копья и дротики падали, не долетая до врага, а «враги» затевали чуть не дружескую беседу, но, понукаемые командирами, после брались за меч. А на что им было убивать друг друга, если одна семья (например, Грэм) была просто разделена границей? Если семьи бывали повязаны если не близкой дружбой и родством, то весьма коротким и не всегда неприятным знакомством?
Чужой истории не бывает. Какая-то из чужих историй всегда наша собственная. Ни одна страна не выживет полноценно в культурной изоляции. Чем дольше и выше станет возводиться стена «чуждости», тем с большим грохотом она рухнет однажды.
Надеюсь дожить.
Богатыри – не вы!
По рылу видать, что не из простых свиней (Владимир Даль, «Пословицы русского народа»).
Писатель исторического романа удивительным образом оказывается со всех сторон в невыгодном, уязвимом положении: и для историков, и для читателей, причем, ровно из-за одного и того же ингредиента своей стряпни – из-за вымысла. Дьявол кроется в деталях, верней, в количествах. Вымысел – как яд, может послужить для текста и лекарством, и летальной дозой. Синхронно получаешь от всех. Массовый читатель требует попаданца, а лучше бы еще и нагибатора-прогрессора. Историк смотрит на тебя примерно как эпидемиолог на клеща – пристально, но без радости. Мало нормальному писателю проблем с доступностью и достоверностью источников, так приходится еще и оправдываться перед служителями Клио на тему своей профпригодности для изложения материала. С одной стороны, господа профессиональные историки весьма недовольны тем, что исторический роман как жанр к истине имеет слабое отношение; с другой – они же весьма недружелюбны при попытке выйти с ними на контакт, чтоб уточнить детали той самой исторической истины. Потому как – какое вы имеете право со своим неакадемическим рылом претендовать на наш уютный калашный ряд?
В 2017 году вышла прелюбопытнейшая статья Дмитрия Володихина, в которой профессор МГУ и писатель резко отказывает историческому роману как жанру в любом праве на просвещение масс – мол, вам, так называемые творцы, другие, низкие истины дороже, а вовсе не истина историческая: «Ложные пути, по которым влечет „историческая беллетристика“, ложные надежды, которые вызывает она у служителей исторической науки – вот предмет настоящей статьи».
Статья оставляет впечатление, мягко сказать, смешанное. С одной стороны, попечалиться о качестве проработки базового материала в том, что сейчас в массе публикуется под грифом «исторический роман», всегда полезно. С другой, и разумные претензии, и здравый гнев, и печаль маститого историка, и его желчь, и его профессиональный снобизм замешаны тут в коктейль несколько тошнотворный.
«В сущности, историк-ученый видит и критикует разительное противоречие между продукцией издателя (кинематографиста) и собственным профессиональным идеалом. А для исторической науки идеал был, есть и будет только один – истина. Ясно, что достичь его во всей полноте невозможно, и так же ясно, что необходимо двигаться по долгим и, порой, трудным маршрутам познания, приближаясь к наиболее полной, наиболее чистой исторической истине. Искажение ее для науки катастрофично во всех смыслах этого слова: вне истины наука бессмысленна, иной идеал для науки по определению невозможен.
Естественно, историк-профессионал гневается, видя погрешение своего идеала, и в праведном гневе укоряет исказителей.
Так вот, подобные укоризны беспочвенны. Точнее говоря, весь подобный подход к исторической беллетристике страдает тяжелым и неустранимым недостатком: непониманием того факта, что историческая беллетристка не может и не будет служить инструментом исторического просвещения, за исключением тех редких случаев, когда профессиональный историк сам берется за перо и решает одновременно две задачи: как научную, так и художественную» (Дмитрий Володихин, ««Перья на шляпах». Историческое просвещение и историческая беллетристика»).
Интересно, что статья вышла в 2017 году, роман Алексея Иванова «Сердце пармы» – на 13 лет раньше, однако в качестве примера того, как нарочито небрежно работают классики исторического романа, Володихин приводит… Вальтера Скотта. А ведь, казалось бы, отчего не поговорить о современнике и о русской истории? Или не все так неладно в датском королевстве с исторической беллетристикой, как это желает подать публике профессиональный ученый?
Позиция живого классика более-менее понятна: написание исторического романа – занятие кастовое, и не всякая тварь дрожащая на то право имеет. Но именно такое отношение людей компетентных и остерегло меня от написания романа по русской истории четверть века назад – а ну как зубры вызверятся? А тут я, без профильного образования, как посмела? Да еще планка, выставленная Валентином Саввичем, смущала – если не справлюсь? После Пикуля писать русскую историю XVIII века – на это надо было иметь, кроме образования, изрядную дерзость. Марать же домыслами и гипотезами историю зарубежную мне не мешал никто. Кстати, хозяйке на заметку: удобней выбирать себе узкий период истории или конкретный момент для написания книги, меньше вероятность, что кто-то еще будет знать его глубже, чем вы – при условии, конечно, что озаботитесь тщательной проработкой материала.
Но, уверяя, что писать исторические романы следует только профессиональным историкам, Володихин льстит себе и обманывает читателя. Где они, те орды историков, владеющих писательским даром, развитым на уровне иных их профессиональных качеств? Нету. Крайне редко совмещается в одном человеке талант исследователя и талант писателя. Да и сам Володихин соглашается, что архиредко встречаются писатели среди историков, приводя в качестве образца изчезающе малое количество имен. И возмущается вновь: «Знаменитейшие книги серии ЖЗЛ пишут не историки, а литераторы». Нехитрая правда, почему так происходит, состоит в том, что эти грешные литераторы, вероятно, умеют писать текст, читабельный для широких масс. А большинство российских профессиональных историков – нет, поэтому ждать от них исторических бестселлеров абсолютно бессмысленно. Почему же сумели написать мировые бестселлеры их европейские коллеги Розалин Майлз («Я, Елизавета»), Филиппа Грегори («Другая Болейн»), Элисон Уэйр («Трон и плаха леди Джейн»)? Несмотря на вопросы к перечисленным авторам (а вопросы к исторической беллетристике есть примерно всегда, таков закон жанра) свой приз они получили примерно за то, что отмечено Володихиным в статье: «Для американского или, скажем, английского „традиционного историка“ (не-клиометриста и не-структуралиста) художественный элемент в работе – важная и, фактически, неотъемлемая часть ремесла (вообще, литература и история в английском и американском интеллектуальном сообществе стоят гораздо ближе, чем у нас, можно сказать, произошло их глубокое взаимопроникновение)». О да. И это большое счастье, что можно читать книги Дэвида Старки о юности Генриха VIII с увлечением, чего о том же «Иване Грозном» самого Володихина никак не скажешь: для источника сгодится, но не для работы читать не стала бы. Автор статьи сетует на коллег, не желающих сформировать новое направление в русской исторической беллетристике, столь прелестно, что не могу не привести пассаж целиком:
«Для большинства историков академического склада работа над популярными текстами – либо „денежная халтурка“, либо вещь в принципе невозможная: ни желания, ни умения. В обоих случаях она слишком многими воспринимается как нечто второсортное, отвлекающее от „настоящего“ интеллектуального творчества. Лишь считанные единицы высококлассных специалистов готовы уделять ей время. Что же, когда благородные доны брезгуют замарать ручки, место, принадлежащее им по праву, занимают простые ребята из серой гвардии. А История, формально считаясь общественной дисциплиной, на деле отдает самый важный канал связи с социумом корыстолюбивым мизераблям».
Изумительно, просто изумительно (поправляя серый мундир мизерабля, припоминая, что и Наполеон предпочитал в униформе что-то похожее). Я бы не останавливалась так подробно на разборе статьи Володихина, если бы не ее очень характерный посыл от историка к писателям в массе своей – заткнитесь, мизерабли, и подождите пока мы сами что-нибудь напишем. Достоверное. Но ждать, будем откровенны, придется долго, очень долго. Потому что пусть пироги печет пирожник, пусть истории рассказывает тот, у кого есть талант скальда. Но желательно, чтоб этот талантливый еще и источники читал внимательно, и совесть имел. Тогда и просвещение станет возможным.
В обрамление темы расскажу занятную жизненную историю. Время от времени на меня находит блажь пойти в академический народ и найти себе рецензента из профессиональных историков, потому как одиноко, знаете ли, писать о данном периоде в шотландской истории, будучи единственным человеком в России, интересующимся конкретной темой. Вот я и ищу, кто бы из знающих поучил уму-разуму, сверить часы всегда полезно. Нашла специалиста в Самаре, который пишет по той же теме, но с другой стороны границы, так сказать – об англичанах, на вопрос про почитать мою книгу специалист корректно промолчал, но по поводу коллег, изучающих шотландскую историю, проконсультировал. Председатель Московского Каледонского клуба (занимающегося популяризацией шотландской культуры в России) сослался на свою высокую занятость и предложение заглянуть в мою книгу отклонил. А медиевист Санкт-Петербургского университета, Института истории, так и вовсе на письмо не ответил. Петербург у нас же – культурная столица России, если кто не в курсе.
На деле отношение русских ученых-историков к писателям таково: мизерабли, вы не задаете вопросов/ не задавайте вопросов, идите отсюда, не мешайте работать/ вы написали книгу? вы мизерабли, почему вы у нас не спросили?! Похоже, русские историки и этнографы (во всяком случае, из тех, с кем я пыталась контактировать по своим темам) воспринимают знания, как нечто сакральное, не подлежащее распространению. Их знания составляют их жизненную ценность, к которой они относятся весьма ревниво. Идите в шахты, берите кайло, грызите гранит сами, и будет вам счастье. Хорошо, я привычная, так и делаю. Но не надо тогда историкам удивляться, что в моих книгах не учтены какие-то тонкости (а то и толстости), видные профессионалам.
И я попал в конце посылки! (Эдмон Ростан, «Сирано де Бержерак»). На середине написания второго тома цикла «Белокурый», «Король холмов», было дело, меня уела совесть, и я стала думать: вот описываю героя красавцем, а ну как есть его реальный портрет? И страшный какой-нибудь (достаточно на портрет его двоюродной сестрицы посмотреть, даром, что дама носила прозвище «Прекрасная шотландка»)? И написала я в Национальную портретную галерею Шотландии в Эдинбурге совершенно беспомощное письмо: я писательница из России, пишу роман о третьем графе Босуэлле, не подскажете ли, не завалялся ли он у вас? Особых надежд на ответ не имела, ибо кто я им такая? Ни регалий, ни книг толком предъявить не могу, а что могу – так на русском. Ответа и не было, целых десять дней. А потом он пришел – с извинениями, что так долго молчали. Молчали потому, что подняли каталоги свои, национальной портретной галереи Лондона и заодно уж частных коллекций на Британских островах, и нет, извините, нигде его нет, так что либо не существует, либо хранится не у нас.
Сказать, что я была в шоке, значило бы несколько преуменьшить.
А что, так можно было?!
Разительный контраст с отчизной, знаете ли.
Историк здорового человека
Евгений Викторович Тарле занимал по вопросу позицию, прямо противоположную господам Анисимову, вовсю порицающему Пикуля, и Володихину, испытывающему отвращение к мизераблям. Евгений Тарле и не предполагал, что за художественную правду в историческом романе надобно порицать.
Доклад Е. В. Тарле на конференции, посвященной проблемам развития советского исторического романа, которая состоялась в Москве в Союзе советских писателей 12—15 октября 1943 г. цитируется по статье Б.С.Кагановича «Е.В.Тарле об историческом романе»:
«Конечно, никогда мне не приходило в голову приступать к чтению исторической беллетристики с теми требованиями, с которыми сплошь и рядом историки к этому приступают, потому что сплошь и рядом отзывы историков об историческом романе поражают своей никчемностью».
«Мне представляется, что на пути исторических романистов всегда стояли два препятствия и разные тернии препятствовали их работе. Первое препятствие – скудость материала, второе препятствие – излишнее обилие, слишком большое обилие материалов. Это то, что касается материалов исторического романиста».
Тарле об историках, которые решили стать романистами:
«Феликс Дан – недурной историк, но он повадился писать исторические романы. Ничего хорошего из этого не получилось. Материала для историка у него было достаточно, но историк не обязан выдумывать, а романист обязан выдумывать и обязательно иметь те исходные позиции, отправляясь от которых он может дать вам картину».
Вот она, та точка, на которой расходятся чаще всего интересы и способности профессионального историка и профессионального же беллетриста – историк всем своим образованием, культурой, профессией, работой приучен не выдумывать. Для писателя ничего не выдумывать – верная смерть.
Проблемы авторов с много/мало материала Евгений Тарле иллюстрирует на примерах «Саламбо» Флобера и романов Мережковского в целом. Для исторического романиста и та, и другая ситуация равно чревата неудачей. В первом случае – мало достоверного материала, как было у Флобера для «Саламбо» – невозможно создать достоверную картину и для читателя, ибо художественный вымысел перекиснет в тексте в художественное вранье вместо того, чтоб перебродить в художественную правду. В случае «много материала» автор рискует погрязнуть в нем сам и утянуть за собой читателя, не умея выбрать главное – необходимое и достаточное доказательство бытия своего героя, своего персонажа.
Вот что пишет Тарле о Мережковском:
«Когда материала слишком много. Это одолевает романиста, берущего свои темы уже из новой и новейшей истории. Тут материала сколько угодно, хоть отбавляй, и романист сплошь и рядом в этом материале тонет. Возьмите такого способного от природы человека (что он со своими способностями сделал – это другой вопрос, но отказать ему в способностях к писанию исторических романов нельзя), как Мережковский. Он ведь душит нас подробностями, которые терпеливо списывает из литературы, которая у него была под руками, и с головой топит своего Леонардо да Винчи, топит всех героев, которых он поставил в свое сочинение, трилогию. И ничего не получается – не получается, потому что он постоянно оглядывается на свои источники и ему кажется, что чем больше он их берет, тем живее будет. Он берет Юлиана Отступника. Он в IV веке берет пьяницу, который всё время ругается, но ругается длиннейшими цитатами из Тертуллиана, который жил за несколько сот лет до этого пьяницы. Мережковскому заметили, что вряд ли пьяница этот может отличаться такой эрудицией в тот момент, когда ему хочется ругаться».