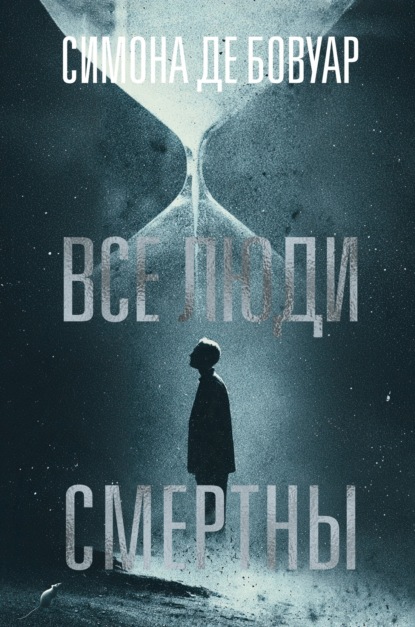Полная версия
Лишь одна музыка
Мои руки помнят трио, но в моих ушах поет квинтет. Тут Бетховен крадет у меня мою партию, отдавая ее другой скрипке; а здесь он дарит мне верхние ноты, которые играла Джулия. Это волшебное превращение. Я слушаю снова с начала до конца. Во второй части первая скрипка – кто же еще? – поет тему фортепиано, и вариации звучат странно, загадочно, издалека, как будто вариации следующего уровня, оркестровый вариант вариаций, но с изменениями, которых одна только оркестровка не объясняет. Я должен это сыграть с «Маджоре», должен. Если мы просто сыграем с приглашенным альтистом, Пирс точно не возразит, чтобы я был первой скрипкой в этот единственный раз.
Я до сих пор не знаю, как водитель меня нашел. Единственное объяснение, которое приходит мне в голову, – что он изучил пакет или чек; что он зашел в «Харольд Мурс» в тот же день, когда я забыл в такси пластинку; что кто-то там узнал ее; что старик внизу вспомнил, как я заполнял карточку с адресом. Но неужели столько дней Бейсуотер был таксисту не по пути? Или он уходил в отпуск? И что его подвигло на такие усилия, такую доброту? Я не знаю ни его имени, ни номера его такси. Я не могу его найти и поблагодарить. Но где-то в этой музыке, перемешанной в моей голове со столькими воспоминаниями вне музыки, этот странный поступок тоже нашел свое место.
2.5Я пишу Карлу Шеллю: письмо получается неуклюжее, я желаю ему всего наилучшего в жизни на пенсии, не особо распространяясь о себе. Пишу, как я рад, что он слышал нас в Стокгольме и ему не было стыдно за своего студента. Я знаю, что не достиг той карьеры, на которую он рассчитывал, но я играю музыку, которую люблю. Когда я вспоминаю Вену, то думаю только про первые дни. Это далеко от истины, но зачем еще усугублять пропасть между двумя чужаками, между отчужденными? Я пишу, что если я требователен к себе, то это благодаря ему и моему восхищению им. В большой степени это правда.
Он посмеивался:
– О, вы, англичане! Финци! Делиус! Лучше оставить страну вообще без музыки, чем иметь такую.
И очаровывал: однажды мы ему играли с Джулией, и он прилагал все усилия, чтобы ее превознести, незаметно, умно, расточительно. Она не могла понять – ни тогда, ни потом, – что я находил в нем плохого. Она меня любила, да, но воспринимала мое отношение к Карлу как мою личную проблему. И все же, когда я встретил его в Манчестере, не так же ли он очаровал и меня?
Почему мы звали его Карлом в нашем кругу? Потому что мы знали, его бы это разозлило. «Герр Профессор. Герр Профессор». Как благородный звук, который он создавал, сочетался с такой мелочностью и с такой ничтожностью души? Какой смысл сейчас переживать это, когда я должен жить настоящим.
Декабрь идет своим чередом. Как-то рано утром я выхожу на дорожку рядом с Архангел-Кортом, и вдруг – в десяти футах от меня – лиса. Она пристально смотрит на лавровый куст. Серый свет и резкие тени от фонаря. Я подумал, что под кустом кошка, но только на секунду. Застыл. Полминуты ни лиса, ни я не двигаемся. Затем по неясной причине – неожиданный звук, смена ветерка, интуитивная осторожность – лиса поворачивает голову и смотрит на меня. Несколько секунд она выдерживает мой взгляд, потом мягко ступает через дорогу к парку и теряется в дымке.
Виржини уезжает в Нион на несколько недель провести Рождество с семьей и повидать старых школьных друзей: Монпелье, Париж, Сен-Мало. Я осознаю, что это к лучшему.
Воображаю, как она несется по автостраде в маленьком черном «ка». У меня нет машины. Пирс, или Эллен, или Билли – мои отзывчивые струны – обычно меня подбирают, когда мы играем на выезде. Мне нравится водить. Может, и надо купить что-нибудь подержанное, но у меня не так уж много сбережений и слишком много насущных трат: текущих, как ипотека, и потенциальных, как собственная хорошая скрипка. Мой Тонони – не мой, мне его дали взаймы, и хотя он в моих руках уже годы, нет никакой бумаги, которая подтвердила бы мои права на него. Я люблю мою скрипку, и она отвечает мне тем же, но она принадлежит миссис Формби, и в любой момент скрипку могут у меня отнять, и она будет лежать никем не любимая, в шкафу, молча, годами. Или миссис Формби может умереть, и скрипка уйдет наследникам. Что с ней было в последние двести семьдесят лет? В чьих руках она окажется после моих?
Церковный колокол звонит восемь часов. Я в постели. Стены моей спальни пусты: ни картин, ни украшений, ни цветных обоев – только краска цвета белой магнолии и маленькое окно, через которое, лежа, я вижу только небо.
2.6Жизнь продолжается в равнодушном одиночестве. Возвращение пластинки что-то поменяло. Я слушаю сонаты и трио, которые не слышал с Вены. Я слушаю английские сюиты Баха. Я лучше сплю.
На Серпентайне появляется лед, но «Водяные змеи» продолжают плавать. Главная проблема не холод – температура в любом случае не ниже нуля, – но острые мелкие иголки плавающего льда.
Николас Спейр, музыкальный критик, приглашает меня и Пирса, без Эллен и Билли, на предрождественскую вечеринку: сладкие пирожки, крепкий пунш и злые сплетни чередуются с рождественскими песнями, которые Николас сам играет на расстроенном рояле.
Николас меня раздражает; почему же тогда я иду на эту его ежегодную вечеринку? И почему он меня приглашает?
– Мой дорогой мальчик, я совершенно без ума от тебя, – говорит он мне, хотя я всего года на два моложе его и не очень-то гожусь на роль его «дорогого мальчика».
И вообще Николас ото всех без ума. На Пирса он смотрит с неподдельным, хоть и несколько утрированным вожделением.
– Вчера я встретил Эрику Коуэн в Барбикане, – говорит Николас. – Она мне сказала, что ваш квартет на взлете, что вы играете всюду – Лейпциг, Вена, Чикаго, она перечисляла города, как турагент. «Какой ужас, – говорю я, – и как тебе удается заполучить для них такие прекрасные залы?» – «О, – отвечает она, – в музыке есть две мафии – еврейская и мафия гомосексуалистов, так что у нас с Пирсом все схвачено».
Николас издает какой-то хрюкающий смешок, потом, замечая тлеющее недовольство Пирса, откусывает сладкий пирожок.
– Эрика преувеличивает, – говорю я. – Для нас все достаточно шатко – как и для большинства квартетов, я полагаю.
– Да-да, я знаю, – говорит Николас. – Это ужасно. Все хорошо только у трех теноров и Найджела Кеннеди[21]. Не говори мне больше об этом – если еще раз услышу, то заору. – Он бегло оглядывает комнату. – Я должен вас еще послушать, просто должен. Так жаль, что у вас нет записей. Вы играете в «Уигморе» через месяц?
– Почему бы тебе не написать что-нибудь про нас? – говорю я. – Уверен, что Эрика это предложила. Я не знаю, как нам стать более известными, если никто про нас не пишет.
– Это редакторы, – говорит Николас уклончиво. – Они хотят про оперу и про современную музыку. Они думают, что камерная музыка – это застой, я имею в виду стандартный репертуар. Вы должны заказать что-нибудь хорошему современному композитору. Это путь к статьям о вас. Давайте я вас представлю Дзенсину Черчу. Это он – вон там. Он только что написал великолепную вещь для баритона и пылесоса.
– Редакторы? – говорит Пирс с презрением. – Это не редакторы. Это люди вроде тебя, интересующиеся только гламуром и ультрамодой. Ты скорее пойдешь на мировую премьеру какой-нибудь дряни, чем на великое исполнение музыки, которая тебе кажется скучной, потому что она хорошая.
Николас Спейр явно получает огромное удовольствие от этого наскока.
– Я так люблю, когда ты страстен, Пирс, – провоцирует он. – А что ты скажешь, если я приду в «Уигмор» и напишу про вас в моем еженедельном обозрении будущих концертов?
– Я потеряю дар речи, – говорит Пирс.
– Хорошо, я обещаю. Слово чести. Что вы играете?
– Моцарт, Гайдн, Бетховен, – говорит Пирс. – И между квартетами есть тематическая связь, тебе это может быть интересно. В каждом квартете есть часть с фугой.
– С фугой? Чудесно, – говорит Николас, теряя интерес. – А в Вене?
– Весь концерт – только Шуберт: «Квартетцац», «Форельный» квинтет, струнный квинтет[22].
– О, «Форель», – вздыхает Николас. – Как миленько. Весь этот занудный шарм. Ненавижу «Форель». Это так провинциально.
– Иди к черту, Николас, – говорит Пирс.
– Да! – загорается Николас. – Я ненавижу его. Я его презираю. Меня от него тошнит. Такой китч. Все правильные приемчики употреблены. Это легко и затасканно. Я удивлен, что кто-то еще это играет. Нет, если подумать, я не удивлен. Просто кое-кому следовало бы проверить свои уши. На самом деле, Пирс, знаешь, твои уши слишком велики. Ну, я-то не сноб – я люблю разную легкую музыку, но…
Пирс, в ярости, выливает бокал теплого пунша на голову хозяина вечеринки.
2.7На следующий день – репетиция у Эллен. Брат и сестра выглядят подавленными. Выходка Пирса получила широкую огласку. Эллен сделала ему выговор за то, что он настроил против себя Николаса Спейра, особенно после того, как тот обещал написать рецензию на наш концерт. Но, как говорит Пирс, Николас уже несколько раз давал те же обещания, всегда клянясь честью, потом, ничего не написав, исчезал на месяц-другой, а потом снова обращался к нему «дорогой мой мальчик» как ни в чем не бывало.
– Я не знал, что ты так любишь «Форельный» квинтет, – говорю я ему.
– Ну да, – говорит Пирс. – Все относятся к нему как к дивертисменту или хуже.
– Я считаю, что он на одну часть длиннее, чем надо.
– Эллен, можно мне чашку чая, пожалуйста, – бормочет Пирс. – Чем горячее, тем лучше.
– Беру свои слова обратно, – быстро говорю я. – Похоже, Билли опять опаздывает. Что на сей раз? Жена, дети или Центральная линия?
– Он позвонил, – говорит Эллен. – Не мог засунуть свою виолончель в футляр. Шпиль застрял. Но он уже в пути. С минуты на минуту должен быть.
– Оригинально, – отзывается Пирс.
Когда Билли появляется, он долго просит прощения и потом объявляет, что ему нужно обсудить нечто очень важное. Это структура нашей программы в «Уигмор-холле». Он думал про нее целый день. И выглядит очень обеспокоенным.
– Расскажи нам, Билли, – говорит Пирс терпеливо. – Нет ничего, что бы мне доставило большее удовольствие, чем хорошее структурное обсуждение.
– Вот-вот, видишь, Пирс, ты изначально настроен скептически.
– Да ладно, Билли, не давай Пирсу себя сбить, – говорю я.
– Ну, вы знаете, – говорит Билли, – что, играя Гайдна, Моцарта и Бетховена в этом порядке, мы путаем все отношения между тональностями. Это полный беспорядок. Сначала три диеза, потом один, потом четыре. Никакого чувства развития, чувства развития совсем нет, и слушатель наверняка ощутит структурный стресс.
– О нет! – говорит Пирс. – Как ужасно. Если только мы бы могли заставить Моцарта написать пьесу с тремя с половиной диезами…
Нам с Эллен смешно, и Билли нерешительно присоединяется.
– Ну? – спрашивает Пирс.
– Просто поменять местами Моцарта и Гайдна, – говорит Билли. – Это решит проблему. Возрастающее количество диезов, чувство правильной структуры, проблема решена.
– Но, Билли, Моцарт был написан после Гайдна, – говорит Эллен.
– Да, – говорит Пирс. – Как насчет хронологического стресса у слушателей?
– Я предвидел, что ты это скажешь, – говорит Билли с хитрым видом, настолько хитрым, насколько Билли способен. – У меня есть решение. Поменять гайдновский ля мажор. Играть позднего Гайдна, написанного после Моцарта.
– Нет, – говорю я.
– Какого? – спрашивает Эллен. – Просто из любопытства.
– Того, который опус пятьдесят, фа-диез минор, – говорит Билли. – Он тоже с тремя диезами, так что ничего не меняется. Это очень интересно. В нем есть все – о да, и последняя часть тоже с фугой, так что это не меняет основную тему концерта.
– Нет, нет, нет! – говорю я. – Билли, ну правда, публике наплевать на порядок диезов.
– Но мне-то – нет, – говорит Билли. – А вам наплевать?
– В нем нет части, которая доходит до шести диезов? – спрашивает Пирс несколько неуверенно. – Помню, студентом я его играл однажды. Это был кошмар.
– В любом случае наверняка слишком поздно уговорить «Уигмор» поменять программу, – говорю я быстро. – Она, возможно, уже напечатана.
– Хорошо, давайте им позвоним и спросим, – говорит Билли.
– Нет-нет! – говорю я. – Нет. Давайте репетировать. Все это пустая трата времени.
Все трое глядят на меня с удивлением.
– Я люблю ля-мажорный квартет, – говорю я. – Я его не сдам.
– Ну, – говорит Билли.
– О, – говорит Пирс.
– А, – говорит Эллен.
– Нет, не сдам. Насколько мне кажется, Гайдн – это кульминация нашего концерта. И вообще это мой любимый квартет всех времен и народов.
– Ну, о’кей, это было только предложение, – говорит Билли, осторожно отступая, будто имея дело с сумасшедшим.
– Ты это серьезно, Майкл? – говорит Эллен. – Серьезно?
– Всех времен и народов? – спрашивает Пирс. – Величайший квартет всех времен и народов?
– Я не претендую, что величайший, – говорю я. – Знаю, что нет, что бы это слово «величайший» ни значило, мне вообще все равно, что оно значит. Он – мой любимый, и этого достаточно. Давайте избавимся от Моцарта и Бетховена, если хотите, и сыграем три раза Гайдна. Тогда не будет ни структурного, ни хронологического стресса вообще. И не будет надобности в бисах.
Несколько секунд все молчат.
– Ну… – повторяет Билли.
– Хорошо, – говорит Пирс. – Итак, программа остается без изменений – Майкл наложил вето. Виноваты, Билли.
На самом деле я не особо чувствую себя виноватым.
– Кстати, про бис, – говорит Эллен, – наш секретный план в силе? Слушатели будут немного шокированы, но, Билли, это одна из твоих по-настоящему блестящих идей.
– Да, блестящая, Билли, – говорю я. – После такого концерта что еще может подойти?
Билли успокоился.
– Хорошо, – говорит Пирс, – у Майкла самая сложная работа в этом бисе, и если идея ему по душе, давайте – вперед! Но я не уверен, получится ли у нас. Предположим, что публике мы достаточно понравимся и она таки захочет вызвать нас на бис… – Пирс размышляет несколько секунд. – Давайте начнем над ним работать сегодня. Все, кроме этой проблемной ноты, которая у Майкла. Так мы примерно поймем, на что можно надеяться, прежде чем загрузим Майкла по полной.
Кажется, Билли хочет что-то сказать, но передумывает и кивает.
И вот так, настроившись, после традиционной гаммы мы репетируем четырехминутную вещь более часа. Мы тонем в ее странной, запутанной, неземной красоте. Временами я перестаю дышать. Это не похоже ни на что из того, что мы играли в квартете раньше.
2.8Через три дня – Рождество. Я еду на север.
Поезд забит. Из-за неполадок со стрелками при выезде с вокзала Юстон задерживаемся на полчаса. Люди сидят терпеливо, читают, разговаривают или глядят в окно на противоположную стену.
Поезд двигается. Кроссвордные квадратики заполняются. Пластиковые палочки мешают чай в стаканчиках. Ребенок начинает плакать, громко и решительно. Мобильные телефоны звонят. Бумажные салфетки комкаются. Снаружи темнеет серый день.
Сток-он-Трент, Маклсфилд, Стокпорт; и в конце концов Манчестер. День безветренный, но морозный. Я не собираюсь тут долго оставаться. Беру зарезервированную машину, чтобы ехать в Рочдейл. Это несколько накладно, но зато я смогу поездить вокруг вересковых пустошей, когда хочу, и свозить миссис Формби покататься.
– У всех наших машин есть сигнализация, – говорит девушка с сильным манчестерским акцентом.
Она взглядывает на мой адрес, давая мне ключи. Я уже чувствую, как мой собственный акцент понемногу возвращается.
Еду мимо статуи граждан-героев на Пикадилли-Серкус, мимо черно-стеклянного здания, в котором раньше располагалась газета «Дейли экспресс», мимо банка «Хабиб» и «Объединенного банка Пакистана», складов, еврейского музея, мечети, церкви, «Макдональдса», сауны, адвокатской конторы, бара, видеомагазина, аптеки «Бутс», булочной, закусочной, кебабной… мимо серой телебашни с наростами приемников и передатчиков, мимо зарослей дельфиниума. Я еду до окраин Манчестера, где он сливается с участками зелени, и в уходящем свете дня я вижу лошадь в поле, пару ферм, голые каштаны и платаны, и дальше Пеннинские отроги, закрывающие мой родной город.
Все мои школьные друзья из Рочдейла покинули город. Кроме моего отца, тети Джоан, миссис Формби и профессора Спарса, старого учителя немецкого, у меня не осталось никого, связывающего меня с городом. И все же то, что случилось с Рочдейлом, его медленное опустошение и смерть, наполняет меня холодной грустью.
Лучше бы небо полосовал ледяной дождь. День слишком спокойный. Но обещают снег. Завтра мы втроем пойдем в «Оуд-Беттс» на ланч. В рождественский вечер – в церковь. А двадцать шестого декабря я, как обычно, повезу миссис Формби на Блэкстоунскую гряду. Я не хочу заходить на кладбище. Я посижу немного в белой «тойоте» с центральным замком и сигнализацией на парковке, на месте которой мы раньше жили, и положу белую розу – ее любимый цветок – на плоское и, надеюсь, покрытое снегом место, где прошла жизнь моей матери.
2.9Отец подремывает с Жажей на коленях. Последние пару дней он не очень хорошо себя чувствует. Наш план пойти в «Оуд-Беттс» откладывается на после Рождества. У него также нет сил вечером идти в церковь. Тетя Джоан считает, что он ленится.
Остролист и омела украшают маленькую комнату при входе, но елку в доме не ставят со смерти мамы. Дом полон открыток: не развешанных, как раньше, но разложенных повсюду. Так что стакан некуда поставить.
Нас заходят поздравить: старые друзья моих родителей или тети Джоан; народ, знавший нас со времен, когда у нас была лавка; соседи. Мои мысли скачут. Наш сосед через дом умер от рака печени. Ирен Джексон вышла замуж за канадца, но это ненадолго. У племянницы миссис Вейзи был выкидыш на четвертом месяце. Месяц назад грузовик с прицепом врезался в витрину магазина Сьюзи Прентис, и, будто этого было недостаточно, ее муж сбежал с ее лучшей подругой, удивительно невыразительной женщиной, и их видели в отеле в Сканторпе.
– В Сканторпе! – восклицает тетя Джоан восхищенно и шокированно.
В радости и в горе, младенец родился нам, прах к праху.
Жаже и мне не сидится на месте, мы выходим наружу. Малиновка прыгает на пятачке гравия под стеной, облицованной каменной крошкой. Свежий ветер проясняет голову, Жажа внимательно следит за малиновкой.
В начальной школе был период, когда мне приспичило завести белых мышей. Я сумел купить двух. На мою мать они наводили ужас, и она не разрешала держать их в доме, поэтому мыши жили в старом наружном туалете возле мусорных баков. Однажды утром я наткнулся на жуткую сцену. Одна мышь умерла. Другая отъела ей голову.
Жажа вытягивает шею и крадется вперед. Соседский гном продолжает безучастно улыбаться.
2.10Когда у нас был магазин, Рождество было непростым и очень насыщенным временем. Каждый хотел получить свою индюшку в последний момент. Подростком я помогал с доставкой. На моем велосипеде помещалось по две за раз (с двумя всегда было удобнее балансировать, чем с одной). Несмотря на частые предложения отца, я наотрез отказывался приделать металлическую корзинку спереди. Поскольку я справлялся с работой, зачем было портить вид моего велосипеда, который был самой дорогой мне вещью, сравнимой разве что с моим радио.
Громадный деревянный холодильник, скорее шкаф, чем холодильник, занимающий целую стену в погребе, в декабре был забит розовыми тушками под завязку. Он закрывался с чудовищным механическим лязгом. И когда могучий мотор слева внизу, с маховиком и металлической защитой, начинал работу, от сильного оглушающего звука вибрировала гостиная этажом выше.
На мой шестой день рождения, когда я играл в прятки с друзьями, я решил, что холодильник – прекрасное место, чтобы спрятаться. Я надел пару свитеров, залез внутрь и с усилием закрыл за собой дверь. Однако через несколько секунд в этом тесном, темном, холодном месте я был готов сдаться. Но я не сообразил, что, как только дверь окажется закрытой, я не смогу ее открыть изнутри.
Мой стук и вопли почти тонули в урчании мотора и криках игры. Несмотря на это, не прошло и пары минут, как кто-то услышал меня в комнате наверху и пришел спасти. Когда меня вытащили, я задыхался от ужаса, орал и не мог ничего сказать. Потом много месяцев подряд меня мучили кошмары, я просыпался в поту, не в состоянии произнести ни слова от клаустрофобии и паники.
Мое первое настоящее восстание против еды также связано с холодильником. Когда мне было около десяти, мы с отцом поехали забрать птиц с индюшачьей фермы. Некоторым отрубали головы, других уже ощипывали, третьи еще бегали и что-то клевали. Я был настолько несчастлив от мысли, что эти самые птицы, на которых я смотрел, превратятся в безжизненные горы, забивающие наш холодильник, что пообещал, что никогда больше не буду есть рождественскую индейку, ни тогда, ни потом. Несмотря на заманчивый аромат начинки и насмешки отца, я не сдался в то Рождество.
При переходе хозяйства в руки тети Джоан яблочный соус моей матери уступил место клюквенному, на что отец каждый раз жалуется. Это не Рождество без яблочного соуса, клюквенный соус – американское изобретение, слишком едкий, действует на желудок.
В этом году Рождество бесснежное, с обычным скучным моросящим дождиком. Но мне хорошо после долгого ужина и рождественского пудинга с кремом из белого рома. Попытка тети Джоан заменить ром бренди была успешно отвергнута несколько лет тому назад. Я купил бутылку шампанского, и отец выпил несколько бокалов.
– Совсем неплохо иногда делать то, что хочется, – говорит он.
– Ну да, – отзывается тетя Джоан, – а небось чаще делать то, что хочется, – еще лучше.
– Это мне полезно для сердца, – кивает отец. – Там не твои «Змеи»? – спрашивает он, показывая в телевизор.
И вправду, «Водяные змеи» в новостях, плывут свои ежегодные рождественские сто ярдов. Около половины старой компании ребячатся, но на платформе для ныряния есть и много участников, пришедших в этот единственный раз. Собралась толпа и их подбадривает. Я рад быть там, где я сейчас, уютно почесывая Жажу за ушами. Лениво размышляю, когда же покажут программу, в которой нас снимали. Может быть, уже и показали.
– Я так и не простила Мэгги Райс, – говорит тетя Джоан, смотря телевизор.
– Ты про что, тетя Джоан?
– Мэгги Райс. Я так ее и не простила.
– За что ты ее не простила?
– Она поставила мне подножку во время соревнований на Троицын день.
– Да ну!
– Это, мол, из-за того, что я дважды уже выигрывала. Я с ней с тех пор не разговариваю.
– Сколько тебе было лет? – спрашиваю я.
– Мне было семь.
– О.
– Не забыла и не простила, – говорит тетя Джоан с удовлетворением.
– Что с ней потом стало? – спрашиваю я.
– Я не знаю. Я не знаю. Может, она давно умерла. Довольно милая была девочка, на самом деле.
– Правда? – спрашиваю я и начинаю засыпать.
Тетя Джоан смотрит на отца, который задремал с улыбкой на лице.
– У ее отца был магазин на Дрейк-стрит, – продолжает тетя. – Но Дрейк-стрит тоже нет – убита торговым центром. Чампнесс-Холл и тот продали.
– Пойду прогуляюсь, – говорю я. – Пожалуй, речь королевы в этом году пропущу.
– А, ну хорошо, – соглашается тетя Джоан, к моему удивлению.
– Может, зайду к миссис Формби, отнесу ей немного твоего рождественского пудинга.
– Ее муж был в Совете, – говорит мой отец, не открывая глаз.
– Я вернусь через час-два.
2.11Миссис Формби радостно смеется, увидев меня. Она довольно богатая, очень уродливая женщина, с лошадиными зубами, в очках с толстыми стеклами. Ее муж, умерший какое-то время назад, тоже был уродлив, но я мало с ним виделся, когда был ребенком. Я считал их замечательно экзотической парой. В юности он был – кто бы мог подумать – чемпионом по катанию на роликовых коньках, а она – скрипачкой в оркестре. Однако было трудно представить их молодыми, настолько старыми они казались мне уже тогда. Формби жили в большом каменном доме с большим садом, полным великолепных цветов, довольно близко от нашего района с булыжными мостовыми, домиками ленточной застройки и магазинами. Как они встретились, откуда было их благополучие, а также чем ее муж был занят в Совете, я так и не знаю.
– Здравствуй, Майкл, как я рада тебя видеть. Я думала, что ты придешь завтра вывезти меня на прогулку.
– Сегодня я пешком. Просто гуляю после ланча.
– А это что? Это мне?
– Кусок рождественского пудинга моей тети. Готовишь недели, а наслаждаешься несколько секунд. Прямо как музыка.
У четы Формби не было своих детей. А у меня, единственного ребенка, не было компании дома. Миссис Формби полюбила меня и настаивала, чтобы я ходил с ней на самые разные мероприятия, которые моя семья не посещала. Именно она, а не ее муж, научила меня кататься на роликовых коньках, и она повезла меня в Бельвю[23] слушать великого «Мессию»[24], когда мне было всего девять лет.