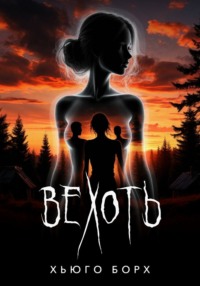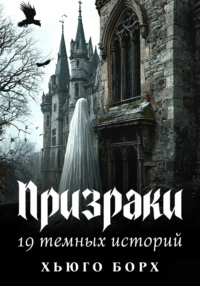Полная версия
Деревня. Ужасы на ночь

Хьюго Борх
Деревня. Ужасы на ночь
Хьюго Борх
* * *Короткое предисловие
В книге собрана разнообразная галерея мрачных и завораживающих ужасов деревни от мастера мистических триллеров и страшных историй Хьюго Борха.
Чары черной ведьмы
Думаете, только в затхлых болотах водятся всякие твари и нечисть? Не спорю, – там, где под ношей гнилой, обломанной лесины задыхается лесная жизнь, могут таиться ужасающие тайны. Но поверьте, на, казалось бы, райских, благоухающих поляночках, бывает, таится зло неистощимое.
Представьте, бредете вы с тяжелым рюкзаком по дикому лесу, вымотанные дорогой, исхлестанные ветками, исцарапанные сушняком, опробованные гнусом, с мозолями на ногах и жаждой испить родниковой или колодезной воды, и вдруг перед вами открывается ровнехонькая поляна, усыпанная яркими низкими цветами. Упасть бы, раскинуть руки и забыться.
Поляна дышит, и как гулящая девка, притягивает к себе. Но стоит ступить на этот сочный, мягкий ковер – и пропадете не за грош. Ибо это не поляна, а мираж, скрывающий нечто зловещее. Это толщи вековой мути, заманивающие к себе жертву, чтобы проглотить ее и отправить на днище, где труп человека или животного сохраняется веками, а вот зачем? Здешние охотники обходят это место стороной. Ведь по ночам над болотом полыхают адские огни, а по окраинам – в высокой траве, а по деревням – в черных избах скрываются потусторонние твари. Лучше стороной, от греха подальше.
Рюкзак с вещами я упрятал в одной из заброшенных охотничьих ям, – женщина, с которой я встречусь, не должна их видеть, а тем более к ним прикасаться.
Дом Лукиана и Евлампии я узнал сразу. Как не узнать дом, в который уже сто семьдесят лет никто не входил? В котором двери заколочены еще теми, четырехгранными гвоздями. В котором белые занавески на окнах почернели, как тучи перед дождем.
Да, эта семья жила в нем 170 лет назад, детей у них не было. Юную Евлампию, рано осиротевшую, родственники выдали замуж за ненавистного ей пономаря насильно. Молодожены пожили там недолго, чуть больше года, пока однажды их не нашли мертвыми. Видимых ран на теле никаких. Скорее всего померли они от употребления яда. Священник не приехал, ибо отпевать самоубийц церковь не велела. На погост тоже не понесли, решили похоронить в одной яме, ближе к болоту, где ни у кого не было покосов. Говорят, потом болото начало отвоевывать себе новую землю, так и проглотило камень, под которым покоились Лукиан и Евлампия.
С тех незапамятных времен дом пустовал. Хотя люди замечали, то тусклый свет лучины, то голоса, будто муж с женой ведут беседу, то стуки какие-то, будто конь стучит копытом.
К скрежетам, скрипам, завываниям, верезжаниям, гиканьям, хныканьям, стенаниям, вскрикам, скулежу, шепоту, лязгу и клекоту уже привыкли.
Но по утрам и вплоть до ночи вновь наступала тишина. Сколько ходили смотреть: двери и ставни оставались заколоченными, пыль не тронутой, а трава не примятой.
…Я знал, с кем меня ждет встреча, – не знал, чем она закончится.
Двор зарос сорняком, колючим кустарником, где даже волки не погнушались устроить волчье логово.
В таких домах на Севере обитают ведьмы. А у ведьмы собаки нет, а если будет, то набросится без лая, чтобы вырвать у жертвы кадык.
Стучать железным кольцом в дверь нельзя, созовешь всю нечисть. Деревянная лестница, отделявшая подклет от сеней, рассыпалась трухой. Дверь в горницу приоткрыта. Тронул, завизжала на ржавых петлях.
– Тебя черт принес? – раздался женский голос.
Промолчал. Поставил свой знак на дверь, вошел, поклонился и сказал тихо: «Спорина в квашню!»
В светильниках горели лучины, – пламя в тревоге затанцевало. Чужеродная тень пробежала по некрашеным почерневшим бревнам стены.
– Ветер больно едкий, закрой дверь, – голос женщины был заигрывающим.
Женщина стояла посреди избы, согнувшись над квашней, – едва она выпрямилась, как ее обнаженные груди, как два независимых от нее существа, потянулись в мою сторону или мне так показалось. Но соски ее набухли. До чего же она себя довела!
Мой внимательный взгляд на ее трепетное тело, от нее не ускользнул. Прищурила глаза, и смотрела мне под ноги, как провинившееся дитя. Ее изможденная спина так и не разогнулась до конца. Я даже подумал, не старуха ли передо мной.
– В сенокос-то чего не приходил? Сенокос-то хорош был по лывам.
– Ждала?
– Такого гостя я всегда приму.
Она кидала взгляд по разным углам избы, поочередно снимала с рук, словно перчатки, белые комья теста, бросая их в деревянную квашню. Глаз на меня не подняла, избегала встречи взглядом. Покрутила головой, будто отмахивалась от мухи, задрала вверх руки, и вновь подсыпала щепотку муки в медленно оседающую массу, отмеченную вмятинами от ее длинных пальцев.
– Мужская рубашка у тебя, Евлампия!
Я произнес ее имя, хотя не был уверен, что она откликнется.
И опять коварная улыбка.
Но за ней не было стены. Я обошел ее, держа в кармане дулю.
Обернулся, а спина ее из теста. Тронул – вздрогнула. Значит, тесто почудилось.
– Не живой, а дышит, – загадка моя тебе.
– Давай разгадаем другую твою загадку. Как пропала Веселина?
Женщина стала спешно закутываться в свою накидку.
– …В четверг молотили в четыре цепа. Первая несильно махнула Златослава, за ней поправила платок и стукнула Веселина, потом для храбрости, чтобы войти в ритм, ударила Купава. Ее поджидала Афимья, как же азартно она взмахнула цепом, а за ней, уже крепко ударила опять Златослава, и цепы начали ритмично бухать в темноте.
– Она изморилась и пошла в лес, передохнуть.
– Она не изморилась, а в лес ее кто-то позвал. Она и платок поправляла во время работы от смущения. Ушла и не вернулась. Больше ее никто не видел. Отдай ее мне, возьми от меня то, что тебе надо.
Женщина стала быстро-быстро произносить слова.
– Ненадолочно прикинулась на молотьбе. И побежала к бурым пескам. Сбежишь, когда дожинки есть, когда столько рук. Кто в лесу ее ждал? Прикинулась, что хворая, а вечером пошла по деревне за гармонью.
– Но на беседках ее тоже не было. Девушки пряли лён, сидели на лавках с прясницами. А ее место пустовало. Гармонист-то с ними был, – за околицу не ходил.
– Раз знаешь все, зачем выведываешь?
– Я тебе Веселину не отдам.
– Не отдавай, да сам не сгуби.
– Откуда кровь взялась на ее цепеце? У других женщин кровь не появилась.
Женщина провела пальцем по моим губам и сказала:
– Ты больше меня знаешь, а меня допытываешь. Может глухаря она убила?
Она зашла мне за спину и провела пальцем по спине.
– А тебе не поздновато тесто месить? Утро для этого дано.
– Не лезь в бабьи дела.
– Бабьи? Небось кукла на меня должна быть похожа?
– Не кукла, а житник.
Накидка на ней была короткой, виднелись спелые манящие ляжки. Она прыгнула на меня, я уклонился, лишь схватил ее рукой за руку.
– Не-су-ражный ты-ы-ы, – сказала она, складывая губы трубочкой и растягивая звуки.
– Мокошь за нами подсматривает, – и я кивнул на деревянного идола древней богини магии и колдовства, что любила стоять на пороге между миром живых и миром мёртвых.
Она толкнула идола. На мгновение замешкалась и снова взлетела, как на батуте. В этот раз попытка ей удалась, – она запрыгнула мне на шею и наклонившись к моему лицу, жарко захватила своими губами мои губы, а потом зажала мой язык своим языком, и оттолкнула:
– Не ходи ко мне, шельмец, я тебе вильми, да рогачем-то двину.
– Знамо дело, с ухватом баба – хоть на медведя. Ночь наша, если утром будет Веселина.
– А ты искал? Да? – она спрыгнула с меня, и протянула крынку с водой. – По льнищу пройди, может там.
Никогда не пробовал такой вкусной воды, – напился, и лежал, распластавшись на полу. Она забралась задним местом на мое лицо. И начала тереться им, будто ее одолевала чесотка. Мое лицо утонуло в ее горячей промежности, и я потерял чувство реальности.
Я смог сделать глубокий вдох, когда она выскочила из комнаты. Вернулась с охапкой душистых трав. Стала засыпать меня растениями, зачем-то, не знаю, зачем. Но на этот случай у нее были заготовлены наговоры. Поднялся пар, как в бане. Да мы и были в бане. От жаркого воздуха с меня ручьями лил пот. Трава намокла и сползала с меня плотными слоями. Тела я не чувствовал, хозяйку потерял из виду, – в глаза стекали струи воды, я не успевал их смахивать.
…В сарафане она возилась у печи. Потом достала с припечка чугунок.
– Лукиан! Я житники давиця пекла. Мой троежитник в пече послаще будет, отведай.
Она обращалась ко мне, как к Лукиану, который сгинул давно. Если она Евлампия, то я участник зловещего сценария. Ведь супруги погибли молодыми.
– Я не Лукиан.
Она посмотрела мне то ли на рот, то ли на подбородок, и хмыкнула.
– Тебе не стыдно было лезть в мою постель?
– …
Похоже ответа она не ждала, в движениях появилась нервозность, когда кормила меня с руки, отламывая кусок, макая его в сметану и закладывая мне в рот.
Уделала меня в сметане, облизала, как кошка, вскочила и захохотала.
Вернулась с кувшином воды или скорее отвара какого-то. Отпаивала меня.
Я поглядывал в окно, я знал, что такие ночи любит Луна, не только призраки этого дома. Я услышал гармониста со своей веселой компанией.
Тогда она запела:
«На веселую беседу
Дроли не явилися:
Они шли через болото —
Клюквой подавилися».
– Морочишь меня. Говорю же тебе, гармонь за деревню не ходила. Гармонь на беседках была. В большой избе народ собрался, а ее не было. И домой не вернулась.
– Ты спрашивал про кровь на ее цепеце, это она порезалась от волнения перед свиданием с тобой. Она как чувствовала твой азарт.
– Евлампия, я сделаю все, что ты скажешь, – только отпусти ее.
– Гаси лучину!
– Но на беседках я и тебя не видел.
– А я не цепляю на себя блудные взгляды.
– А другие взгляды цепляешь? Тебя видят, как ворону, клюющую кишки от забитого кабана, тебя видят, как хоря, давящего ночью куриц, как кошку, укравшую цыпленка, так тебя видят?
Она прикрыла свою наготу длинными волосами.
– Больно прозорлив ты.
– Вот выписка. Смотри, под лучиной можно разглядеть. Там про тебя написано.
– Почитай мне.
Я вытащил из кармана намокший лист, сложенный вчетверо, аккуратно развернул и прочитал тот текст, который привожу в полном соответствии.
«Богородская Верхнедольская церковь. 3.11.1848 года от Рождества Христова венчаны пономарь Лукиан Устинов Сатрапов 35 л. п/бр и умершего священника Аггея Петрова дочь девица Евлампия 17 л. п/бр. Поручители по жениху: коллежский регистратор Автоном Лукин Ильинский».
– Каков ты чтец!
– Ты узнаешь себя, Евлампия?
Она посмотрела на меня, сквозь меня, сквозь стены. А в глазах глубина, как если в колодец уткнуться взглядом. Я лежал на широких дубовых досках пола, а тут отпрянул от нее, и ударился затылком.
Она вся, как клубок шерсти, оказалась в ногах, и взялась целовать меня, обволакивая меня волосами, как саваном. И не робко по-девичьи, не жарко по-бабьи, а так, будто упал я на ягодную поляну, и каждая ягода присосалась к телу, как пиявка, а сверху саван.
– Земляника – поцелую землю.
Ее волосы скользнули по моим ногам. Я чувствовал, что с ногами что-то творится, будто ступил по пояс в теплую воду.
– Костяника. Косточка или камень делают тебя твердым.
Это были укусы, от которых я подпрыгивал, как резиновый мяч, сначала больно, потом привык.
– Дурманика опьяняет.
Я начал задыхаться. Она прижала меня своим телом, и ее тело начало тяжелеть, дубовые доски заскрипели, как от урагана в лесу. И я утонул в ее плоти.
– Кислика. Чтобы узнать сладкое, попробуй кислое.
Кислика оказалась у меня во рту. Она принесла свежесть ощущений. От ее вкуса мышцы лба и бровей у меня сократились. Я прищурил глаза, и как бульдог начал выделять обильную слюну.
– Черника. Ты будешь похож на моего черного кота.
Она давила на мне черные ягоды, как клопов, и водила пальцем, чтобы оставался след, а потом слизывала этот след на лице, шее, спине и в паху.
– Ежевика. Ягода ежей.
Она уколола меня ножом, сначала в лоб, потом в живот, – уколы стали появляться по всему телу, я выкрикивал ее имя, пока не потерял сознание. Это была Черная Ведьма. Только они вытягивают из тебя всю энергию и оставляют жить.
Очнулся от женского плача, стонов и причитаний. Ладонями нащупал пол, над головой увидел потолок, затянутый облаками паутины. Оглянулся на стон. Рядом, на тех же кровавых простынях, на которых находился я, среди длинных стеблей, на раздавленных шариках ягод лежало забрызганное кровью, избитое, истерзанное тело девушки. Одежда на ней была разорвана в клочья и не могла уже скрыть порезов и ссадин. Руки ее были распластаны по сторонам, а ноги были покрыты бурым песком. Она не шевелилась, но продолжала стонать.
Я принес ковш воды из деревянного ведра, но воду попробовал – на вкус она была колодезной.
Приподнял ее голову, поднес воду, она разжала стиснутые зубы и с усилием сделала глоток, но тут же вырвала все наружу.
Тогда я вылил ей на голову этот ковш воды, чтобы она пришла в себя. С ее лица смылась налипшая грязь и трава. Лицо было воспаленным, опухшим и зареванным, но я узнал пропавшую Веселину. Она вернулась из какого-то ада, пусть в таком состоянии, но живая.
Я ждал – она заговорит, и она заговорила.
– Откуда ты? Где ты была?
Она посмотрела на меня, как затравленный зверь.
– Да что с тобой было? – спросил я.
– …А ты не знаешь?
– Это Евлампия?
– Нет. Ты меня позвал в лес и набросился, как бешеный зверь. Ты затащил меня в ягодник. Ты перенес меня в этот проклятый дом, где совершались убийства. Зачем ты издевался надо мной? Сколько я тебя умоляла. А теперь не помнишь?
– Я тебя не видел.
– Ты не помнишь?
– Деревня призвала меня к черной ведьме… И та тебя отдала.
– Не было ведьмы, а ты был. Мне было больно. Ты, как бешеный пес, разорвал меня на части. Лучше убей меня, я не буду жить уродкой.
…Я ожидаю в лесу Веселину, а потом силой овладеваю ею, да еще издеваюсь над ней. Я под дурманом и не контролирую себя.
Сцены моего разврата мигом пронеслись перед глазами. Фантазия или воспоминание?
Я поднес к лицу свои грязные ногти, я провел пальцами по стопам ног – все, все, все было в буром песке.
Пошепт заброшенного капища
Новелла
КораДеревня Бугава была из тех северных деревень, про которые всегда говаривали «У черта на куличках». Скрытая в глубине непроходимой тайги, – там где туман с болот, а клюква под кочками размером с вишню, где непроходимые буревалы и бадни укрывают под собой древнюю тайность, где уйма зверья погибла в последний ураган, заваленная рухнувшим лесом, где камни размером с медведя, покрыты столетним мхом, где в буреломе находят скелеты между столбами с надписями на непонятном языке, в крайнем доме под соснами жила женщина, – самая молодая из вдов и самая красивая из всех женщин селения. Звали ее Корья, но отец, когда она была молодицей, звал Кора.
Жила она незаметной для земляков жизнью, а потому в огороде ее не видели, хотя огород держала до края холма, а как не держать; на охоте не встречали, но знали, она охотница; во дворе дома тоже не замечали, пес заливается лаем, а она тенью промелькнет и покажется больше.
– Ведьма она, – сказал косой мужик Касьян, что свататься к ней набивался, когда она овдовела, да получил отпор, сказал со злобой, в изрядном подпитии, и еще оглядел мужиков косым глазом, так, будто сверлом просверлил. Но люди на ус намотали.
– Надо дом ее сжечь к чертовой матери! – не унимался Касьян.
Но бабы не дали, – признались, что ранними зорями в огороде, да на грибных полянах вдову встречали, а мужики, как оказалось, закатным часом замечали на охоте, да и пес у нее не злобливый, – лает по делу, да на того, кто со злыми помыслами.
Жители деревни, перестали беспокоить Кору своими глупыми догадками, а больше приглядывались, да перешептывались. Не зря их по тайге «величали» погостниками. В округе все деревни осиротели, а этот народец все прозябал тут, в глуши таежной.
Знали они, Кора по сыну тоскует, семилетком пропал он хмурым днем. Следом отец и муж Коры ушли на болота и не вернулись, говорили в мяхину угодили, место топкое, сразу – не распознаешь место то; следом и мать иссушили тоска, да болезни, а братья с сестрами в младенчестве поумирали.
Шибко не жалел никто. «Берегчи надо было», – все, что сказали безутешной матери. В деревне двора не было, чтобы без потерь, жизнь такая. Зато вот никто, кроме Коры не дознался, какая беда затаилась в глухой чаще тайги, в тех проклятых местах, где по слухам язычники устанавливали капище для жертвоприношений, где люди пропадали бесследно, где зверя находили разорванного с особой жестокостью…
Когда пропал сын, Кора искала его денно и нощно. Не одни бродни в болотине оставила. Ходила по кочкам вагмаса, ельника заболоченного, непролазного. Думала, сын выбраться не может, вот и схоронился там. В избушке охотничьей, к которой раньше боялась и приблизиться, посыпала муку, чтоб след разглядеть вошедшего туда. Да попала на кержака, снасильничал и ушел в тайгу. Кора ночью вернулась, чтобы срам никто не распознал, одежда вся тряпьем висела.
Останки человека нашли опосля, да вот кержак то был или другой приблудный, кто знает…
Кора напросилась к столетней вещунье. Старуха на небо, огонь и воду пошептала и ушла в тайгу, ничего не сказав. Спустя два дня и две ночи вернулась с ответом. Да, по всему выходило, что нет сына в живых, а помощи просит. Зло большое было. Зло и наведет на сына. Как подобраться к нему? Способ есть? Бабка сказала, а Кора ушам своим не поверила. Грех надо принять: человека загубить или самой погибнуть, но самой не через смерть, через блуд.
Коре следовало тайно соблазнять женатых. Но без свадебного обряда не обойтись, – так нашептала бабка. Кора, пока принимает ухажера, как бы невестой ему становится.
Кора знала, она не способна на душегубство, даже ради своего пропавшего ребенка. Искать Антихриста нельзя, сгинешь, не узнав правды, оставалась лишь одна тропинка, узкая, позорная, с грязью несмываемой. Отдаваться мужчинам – это единственное, что оставалось безутешной вдове.
СоблазнительницаВ доме стало душно, выбежала-выскочила во двор, оттудова в лес. Шла узнаваемыми тропами, да тропы стали будто враждебными, там за плетеную траву запнулась, там оступилась и улетела в бурьян, лицо поцарапала, и на руках кожу содрала. Пореветь пришлось, но вышла к покосам. Увидела парня молодого, граблями с дедом сено переворачивали, чтобы не подгнило. Парня звали Алешкой. Но тут железница села на руку, Кора не решилась подходить.
Вернулась. Голоса громкие через дом, да на всю деревню. У дюкака юбилей. Ровесник ее. Как она могла забыть? Не пьющий, любит жену, троих детей наплодил. Да вон он! Пошел к колодцу. Слово за слово. Царапина? Так самой все приходится. Не зову помощников? Так стесняюсь. Тимофей пригласил ее в дом, сразу, без задней мысли.
Она умылась у колодца, забежала к себе сменить рубашку, – она твердо решила: явится на день рождения Тимохи, и уведет его оттуда, а дома разыграет сценку «жених и невеста».
Веселье было не жарким, старики покрикивали, бабы кудахтали, как на насесте. Тимофей быстро набрался, и уже еле ворочал языком. Пора действовать. Кора дождалась, когда Райка, жена Тимохи пойдет по хозяйству, чтоб вытащить его из дома.
На пса заругалась, чтоб голосу не подавал. Вот перед ней Тимофей, в руках поднос со смородиновым вином, налитым до кички, колени подгибаются. Невеста непременно должна выпить стакан до дна; Тимофей подает ей медовый пряник и медное колечко, что завалялось в комоде еще от стариков.
На языке у него было одно – глубокое сожаление, что женился на Райке, а не на Коре. В постели Тимофей был слаб, – Кора выпроводила его с полотенцем на шее – так обряд завершается – подарком от невесты.
– Не падай духом – падай брюхом, – будет кричать ему вслед Кора.
А мужик опустит голову, да поплетется к ненавистной Райке.
Косой Касьян, как узнал, что Кора блудит, прибежал весь взмыленный, как конь после распрягания.
Кора чин-чинарем провела его в дом, а он и рад стараться, набросился на хозяйку, пока она его не оттолкнула.
– Белый пол, сымай сапоги, не топчи.
Разожгла страсть Касьяна, сбросил с себя пожитки, упал на колени, – принимайте меня, блудный сын явился.
…Взял он свое, пришлось его раз-другой на пол скидывать, и водой с ковша плеснуть пришлось, и сапоги во двор выбрасывать, чтоб уходил.
– Дери, не стой!
А он как телок мордой тычется.
– Ну, буде дековаться.
Тогда он и унялся.
Игната Кора заманит на починку лавки, что стала скрипеть и качаться из стороны в сторону в гостиной под ее окнами. В неопрятном сарафане до колен, с нечесаной головой в платке, подвязанном под щеками, она пригласит его отведать борща. Начнет протирать пол, да демонстрировать гостю манящие розовые ляжки в просветах закатного дня.
Потом Игнату она даст ковшик с житом, и он играючи, станет бросать в нее, норовя попасть в грудь. Потом он скажет голосом, не терпящим пререканий:
– На боковуху упрись, а я пристроюсь.
До потух зари они будут с Игнатом миловаться, а там уснут, как младенцы.
Семен войдет в избу, наклоня голову под братиною на палатях, Кора как невеста умоется водою, да прольет на грудь и под мокрым белым сарафаном будут выделяться ее наливные упругие груди. Семена бросит в жар, а Кора уберет с краев бранной скатерти два хлеба, весом около пуда, скажет нетерпеливому Семену, пристроившемуся сзади:
– Погодь, уберу столоники.
И Семен овладеет ею на дубовом столе, где еще недавно она мужа потчевала.
К Федору невеста Кора выйдет, сняв с себя лучшее платье и надев другое, попроще, закроет лицо руками, присядет под середнее окно, покроет свою голову чистою скатертью, и трижды поклонится в угол, будто там стоит ее мать, и усядется на лавку в ожидании жадных лобзаний Федора; потом поменяет скатерть на шелковую фату. В ней и уляжется в постель. Так что Федору придется самостоятельно обмыться над тазом в сенцах.
Раздевшись, Кора умывается, белится, румянится и снова одевается, а гость стоит и не отводит глаз.
– На что рядишься?
– Ты, Федор, беспонятный какой.
Вот он берет с печи пшеничный пирог, кладет в него несколько монет и протягивает ей. Она кланяется три раза и целует мужчину на три раза тоже.
Ночью Кора его будет звать Игнатом, и восприимчивый Федор раскусит наличие тайной связи Коры с другим кавалером.
А ночью еще в окно постучат. Пес на цепи надрывается, а тут косой Касьян легок на помине. От него не отделаться. Федор через другой ход окажется на дереве, оттуда слезет и поковыляет домой.
И вот уже вся деревня шепчется по поводу Коры. А у Коры новый ухажер – мужик из другой деревни приехал в гости к кому-то, и Кора забыла, как его зовут, но зато он готов участвовать во всех стадиях свадебного ритуала, не смущаясь, не торопясь.
Прошло три недели. Мужиков неохваченных не осталось. Все осчастливлены. Каждому досталось и упругое тело молодой женщины и ее песни. И выходила к ним в почелке на голове. Плачей только не было.
Особенно хорошо Кора угостила Алексея. Под занавес трапезы Кора достает горшок каши, – гость ее отведает, остаток будет высыпан в помойное ведро, а порожний горшок возвращен на печь с приговоркою: сколько черепья, столько ребят молодым!
После еды она посадила его на лавку и стала снимать с него сапоги. Алексей вышел на двор покурить и сбежал босиком.
По утру приходил его шурин за сапогами, отчитывал Кору за безнравственное поведение.
– Ты ж коловратный, а тут прошибло, да? – огрызнулась Кора.
Кора где шуткой, где смачным словом пыталась его зазывать на чай, но шурин был непоколебим, как старое бревно.
– Думашь, беспутая я? – и с этими словами Кора повела шурина в сарай, за сапогами, и там соблазнила шурина.
Туман нынешней осениРазговоров в деревне прибавилось, да и куры закудахтали, как никогда. В дом, в сарай, в баню, на сеновал, в лес мужиков заманивать приходилось. Кора отдавалась страстно и с упоением, ерзала под ними, как змея, криком кричала, визжала, стонала, плакала и пела песни, вот где голосу воля была.
И пришел зуд, – там глубине, внизу живота, белая сырость выделилась, рыбой пахнуть стало и жечь. Она опять к бабке, и бабка знала, зачем пришла Кора, сразу дала ей меду для лечения. Кора вдруг спросила, не первая ли она пошла на это? Но бабка и глазом не повела. К тому же знала, что не все попробовали женского тела пришедшей. Велела ждать.