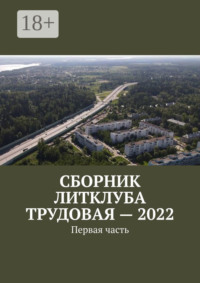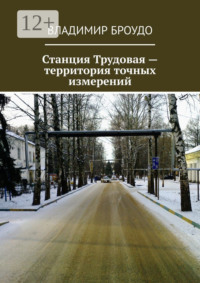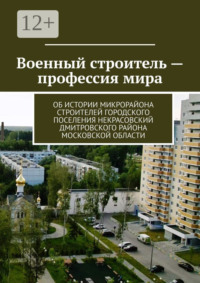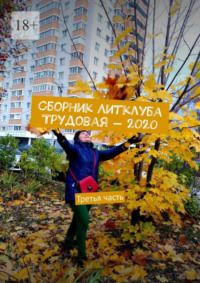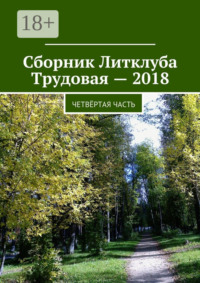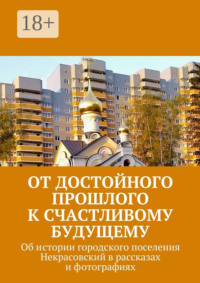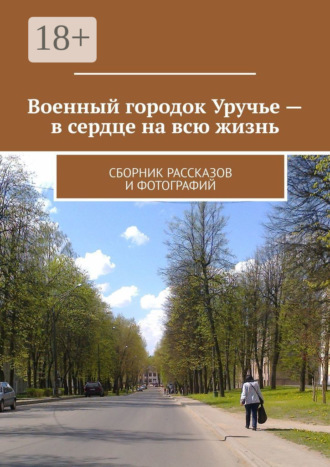
Полная версия
Военный городок Уручье – в сердце на всю жизнь. Сборник рассказов и фотографий
Миша Шабето научил нас многим спортивным играм. И как-то так вышло, что одно лето мы по утрам всем детским двором бегали на зарядку! Зарядку делали на спортплощадке возле ГДО и проводили ее по очереди. Выходили почти все! И даже как-то раз выпустили дворовую стенгазету. Про что – не помню. Миша и Маша Шабето живут в том же доме до сих пор. Дочки их вышли замуж за курсантов МВИЗРУ и живут одна в Подмосковье, а вторая в Болгарии. Когда темнело, родители выходили на балкон и звали нас по домам. В угловом подъезде жила семья по фамилии Кузьмак, и у них были дети Люба и Савелий. Мама их звала так: «Любаша, Савелик, домой!». Очень быстро мы и мальчика и девочку стали звать одинаково – Любава-Сапеля.
Когда на улице шел дождь, вся ребятня собиралась под крышей над угловым подъездом. Кто сидел, кто стоял, и обязательно рассказывали страшные истории про черный, черный гроб, в котором лежит черная, черная рука, которая вдруг оттуда выскакивает, за всеми гоняется, хватает и да тащит за собой. Как я боялась этой руки! А потом надо было одной подниматься домой на четвертый этаж, а если где лампочки нет?! Ужас! Влетала наверх пулей. Но иногда таких страшилок наслушаюсь, что даже в подъезд зайти боялась, снизу звала папу, чтобы встретил меня на темной лестнице. И он встречал!
На все советские праздники училище устраивало торжественные мероприятия. Во двор приезжал училищный автобус. Наши нарядные молодые мамы и папы садились в него и ехали на вечер. Там были концерт, буфет, танцы. Утром автобус приезжал за детьми и уже мы ехали на утренник. Там давали конфетные подарки, показывали мультики, водили хороводы вокруг елки. И я до сих пор помню, как уточка «Серая шейка» плавала по замерзающему озеру, а голодная рыжая лиса подбиралась к ней все ближе и ближе по образовавшемуся льду. А еще я помню красивый вестибюль, похожий на театр. Против главного входа – знамя училища и обязательно у знамени часовой. Как это было торжественно и важно!
Очень много интересного было в ГДО. Телевизоров тогда не было и все ходили в кино. Детское показывали по воскресеньям, билет стоил 5 копеек. С вечера мы сговаривались и утром всем двором с зажатыми в кулачке пятаками бежали в ГДО, где уже толпились ребята со всего городка. Билетов хватало всем. Как много хороших фильмов детских и взрослых мы посмотрели в ГДО! В фильме о Синбаде-мореходе по пляжу бежал одноглазый циклоп. Маленькая Лена Колышкина его сильно боялась, залазила под кресло и оттуда подглядывала, ухватил ли циклоп прекрасного морехода. И не одна она!
А вечером уже наши родители парами под руку шли в кино. Первые годы работал гардероб, зимой сдавали пальто. Поэтому в кино все ходили нарядные. Можно было и себя показать и других посмотреть. Начальником ГДО был офицер из дивизии по фамилии Зильберман. Какой у него был порядок в парке! Там были аллеи со скамейками, клумбы, скульптуры, тир, буфет, танцплощадки, деревянный кинотеатр, который летом работал. В конце был маленький детский садик, единственный на городок. Вечерами в аллеях горели гирлянды из лампочек, играла музыка, народ гулял!
Мы, девчонки, любили делать в уголке при входе в парк секретики. Это в земле выкапывалась ямка, на дно красиво выкладывались какие-нибудь фантики, так называемое золото (фольга от конфет), цветы, листики. Сверху накрывали стеклом и засыпали землей. Потом мы ходили навещать свои секретики, откапывали их, смотрели, находили чьи-нибудь еще, тоже смотрели, вражески бурили. Почему это было так интересно? Может быть всем людям охота найти какой-нибудь клад?
А еще Зильберману подчинялся стадион. Когда мы приехали в городок, стадион был устроен так: футбольное поле, вокруг которого построены деревянные трибуны. Под трибунами были раздевалка и пункт проката. Рядом с ГДО были площадки для баскетбола и волейбола. Зимой на поле заливался каток, по середине стояла елка, светились огни, играла музыка. Катались все – и взрослые и дети. На этом катке папа научил меня кататься на коньках. Коньки покупались свои. Можно было их привязать к валенкам – так называемые снегурки, с закругленными носами. Это для малышни. А высший класс – это коньки с ботинками. Лезвия как для хоккея, фигурных коньков тогда не было. Мы надевали эти самые коньки дома, грохотали в них по квартире, потом по лестнице. Благодаря этому грохоту всегда знали, кто из друзей подъезда пошел на каток. Катались до позднего изнеможения! Мой лучший в мире папа часто приходил за мной и уставшую, совсем обессиленную взваливал на спину и волок домой. Так делали многие папы наших подруг. Стадион, видимо, был старый, быстро сгнили трибуны. И на этом месте построили новый, с насыпными валами, по которым мы так любили гулять, когда стали барышнями старших классов. А каток потом заливали возле памятника Ленину у дороги к старому штабу. Но это было, когда я уже училась в институте. Начальник Зильберман довольно быстро куда-то уехал, и парк сразу пришел в запустение, зарос, потом в самой дальней его части построили легкоатлетический манеж.
Парк превратился в лес и очень не многие помнят его красоту и ухоженность, и хорошего человека Зильбермана, который так украшал жизнь обитателей городка. Зато очень долго в ГДО существует музыкальная школа. Все девчонки нашего двора сразу пошли «на музыку» и хор. Вечерами их открытых окон доносились песни о гусях, живших у бабушки. Самые продвинутые играли «Ригадон» – это первая пьеса, которую играли двумя руками. Как мне хотелось играть про гусей! Но у нас совсем не было денег на пианино, и мама не хотела отдавать меня «на музыку». Наконец я ее уговорила. Какое горькое было у меня разочарование, когда вместо веселых песенок учительница заставляла играть гаммы и этюды. Постепенно пальцы стали послушными, мне купили пианино, и я с огромным удовольствием ходила в музыкальную школу. Там были обязательные для всех учеников концерты.
Зал в ГДО набивался до отказа. Приходили родители, братья-сестры, друзья и сами участники концерта сидели тут же. На сцену выкатывали рояль, поднимали крышку. Все, как у Рихтера. Музыкальные пьесы почему-то назывались «вещи». Родители гордились, друзья били в ладоши. Успех был оглушительный! Ошибок никто не замечал. Я долго играла на фортепьяно после окончания школы, полюбила классическую (и всякую другую) музыку на всю жизнь, привила эту любовь моему сыну. Музыка – это самое замечательное, что создает человек.
В 50-е годы Минск начинался там, где сейчас площадь Калинина, а там, где сейчас кольцевая дорога, были торфоразработки, и комбайны добывали торф открытым способом. Потом достроили проспект, до того места, где сейчас обсерватория. На месте НИИСА было кольцо первого троллейбуса, до него доезжал наш маленький автобус, который ходил из Уручья в город два раза в день. Поэтому, важное значение для городка имел магазин. И он был в нашем доме!
Продуктов в стране не хватало всегда. И во время нашего детства было такое понятие «давать на детей». Мы, малыши, должны были играть возле дверей магазина. А наши мамы в это время стояли внутри за сахаром или чем-нибудь еще. Когда подходила очередь, они выбегали, хватали своего (если свой куда-то делся, то любого из толпы) ребенка, волокли в очередь, и тогда на этого ребенка давали лишний килограмм дефицитного товара. Магазин сторожили часовые. Зимой часовой ходил вокруг дома в валенках и длинном белом тулупе, который был выше головы. За спиной болталась винтовка. Что за часовой без винтовки? Нам, маленьким девчонкам, очень интересно было смотреть, как из темноты вдруг возникало такое нечто, охраняющее наш дом.
А какой важной фигурой в городке был рубщик мяса по имени Аркаша! Генералы отдыхают. Об особом расположении Аркаши мечтали все женщины городка. Еще в наш двор приходил так называемый спекулянт. Это был такой дядька с солдатским вещмешком за спиной. В нашем доме он скупал старые вещи, чинил их, и потом где-то перепродавал. Большого достатка во многих семьях не было, поэтому его прихода в доме ждали. Он появлялся. Начинал обход с первого подъезда, дальше шел по многим квартирам, и, наконец, добирался до нас. Моя бабушка, Анна Никитична, на кухне поила его чаем, разговаривала. Но при этом почему-то считала его полицаем. Особенно удачным было продать ему кирзовые сапоги и военную полевую форму. Офицеры из МВИРТУ это все не носили, а получать – получали. Офицеры из дивизии, наоборот, полевую форму снашивали быстро. Вот он покупал наши новые шмотки и тут же кому-то перепродавал. Тогда дядька был спекулянт, уголовное дело.
А теперь это бизнесмены, уважаемые люди, которые, в общем-то, и вывезли нас на себе, в тяжелые 90-е годы. Очень здорово было у нас зимой! Мы играли всем двором: и большие и маленькие. Дедовщины не было! И вот какую-то зиму мы ввели затяжную войну с перводосниками. Мы строили огромную крепость, они тоже. Мальчишки метали снаряды, бегали в набеги на вражеские укрепления. Девчонки лепили и подносили снаряды. Долго силы были раны. И тут свой ратный подвиг совершил Борька Радовский. Мы звали его Бога. Он был по сравнению с нами толстый и за это мы его дразнили. Так вот, он всей своей массой бросился на крепость перводосников, телом пробил дырку в стене, куда и устремились другие наступающие. Крепость перводосников пала. А Бога три дня ходил в героях. Потом он вырос, окончил МВИЗРУ. Постепенно вся их семья перебралась в Америку. Еще как-то по всему городку понастроили деревянных горок и залили их водой. Была такая горка и во дворе перводосников. Катались все! И на попе, и на спине, и на животе, головой вниз, головой вверх. Самые отчаянные мальчишки – стоят на ногах! После Нового Года на елках съезжали. Подрали кучу одежды, но было очень весело. Когда мне было лет 8—10, зимой все дети ходили в валенках, наверх натягивали шаровары, чтобы снег в валенки не попадал.
Навалявшись в снегу, мы приходили домой, снимали шаровары с наросшими за гулянку сосульками, шли на лестницу и обивали их о перила, чтобы сбить наросшие комья снега. Потом все добро вешали на батареи сушить. Так делали в семьях всех моих подружек. Когда мы въехали в наш дом, то для приготовления пищи на кухнях стояли четырехкомфорочные плиты из красного кирпича, (размером примерно со стол), а в ванных были титаны. Все это надо было топить дровами и торфом, для хранения которых под домом были подвалы. Там же хранили картошку, которую закупали на всю зиму, т.к. зимой ее нигде не продавали. Плиты эти топили редко, пользовались керогазами, которые заправлялись керосином и мели свойство вспыхивать. В наш подъезд на первый этаж приехала семья Карповых. У их мамы часто вспыхивал керогаз, она его хватала со столбом огня и бежала из квартиры на улицу тушить. Сколько раз, открывая подъезд, чтобы зайти, я натыкалась на этот горящий керогаз! Главное было – быстро увернуться.
Я очень люблю семью Карповых, хорошо помню папу Василия… маму Анну… которая еще жива. А их дочки, Нина и Люда, были моими лучшими подругами, когда нам было 18—25 лет. Сколько незабываемых веселых вечеров провели мы в их квартире на 1 этаже нашего подъезда. Вместе с сестренками ходили в филармонию, театры, на выставки, делились интересными книгами, ходили бассейн и на лыжах, ездили в отпуск на море и в лодочные походы, играли в волейбол, ходили в лес за ягодами и грибами. Дружба с сестрами Карповыми – это самая замечательная пора моей юности. Люда Карпова окончила химфак БГУ, защитила кандидатскую диссертацию, работает в Академии наук, занимала высокую должность ученого секретаря в бытность там Мясниковича. А Нина Карпова до сих пор моя любимая подруга. Познакомили наши семьи, встречаемся. А еще маленькая, я боялась помойки. Мусор наши дома выносили в дальний угол двора. Где стояли два высоких деревянных ящика. И в них кормились коты. Мы малые, что в ящике – не видели. Вываливаешь мусор, да на кота. Он оттуда орет от испуга, мы тоже. Поэтому я любила Танклевского. И вот почему.
Танклевские жили в нашем доме с самого начала. Их мама, Рахиль Давыдовна работала в санчасти, а папа был дирижером в МВИРТУ. Дочку звали Оля. Их семья первая в нашем дворе купила автомобиль. Это был серый «Москвич» с запасным колесом сзади. Танклевский построил гараж не далеко от ящиков. Поэтому, когда он возился в гараже, никакие орущие коты были не страшны. Этот «Москвич» очень долго был единственной машиной во дворе, и только через несколько лет стали появляться «Волги» обязательно с оленем впереди. Он был блестящий, покрытый никелем, все его натирали и очень берегли. Дочь Танклевских, Оля, стала музыкантом, вышла замуж и уехала в Самару. А родители жили в доме очень долго и уехали к дочке где-то в начале 2000 годов.
Когда я был маленькой девочкой, дружила с Ирой Аверьяновой, Семиненко Томой и Ирой, Килиными Наташей и Сережей, Дианой Алапашвили. И мы ходили друг к другу на дни рождения. Дарили чашки с блюдцами, карандаши цветные с альбомами для рисования, книги с собственноручной надписью. Одну такую чашку и несколько детских книжек я берегу до сих пор. Девочек Семиненко счастливая судьба обошла стороной. А у Килиных все сложилось. У Килиных жила бабушка. Она плохо ходила и ей к подъезду выносили стул посидеть на воздухе. Мы обязательно к ней подбегали поздороваться и поговорить. Наташу мы дразнили Килькой. Она, может, и обижалась, но не надолго, и мы всегда вместе играли в классики, в прятки, вместе ходили на музыку, играли на пианино в четыре руки. Наташа закончила политехнический, преподавала в нархозе. Сергей Килин закончил физфак БГУ, стал большим ученым, член-корр. Академии наук. Имеет много научных трудов и ездит как ученый по всему миру. И дети у них такие же милые. У Сергея 3 сына. А родители Килины до сих пор живут вдвоем в той же квартире! Папа, Яков… на улицу почти не выходит. Зато мама, Нина Петровна наряжается, одевает шляпку и идет в наш магазин. Но с черного входа, с угла, на крыльце которого мы когда-то сидели. Ее все знают, уважая ее возраст, пропускают, и даже грузчики помогают донести домой сумку с продуктами. И опять через черный вход. С Наташей мы иногда встречаемся в музыкальных театрах и концертах, и всегда очень рады друг-другу. Очень хорошо помню семью Аверьяновых. Они жили в нашем подъезде в кв. 42. У Аверьянова В. Я. очень рано умерла первая жена, их дочери Ире было лет 6—7. Через несколько лет он женился на Ларисе, племяннице Нагаевых, с которой и прожил до конца. У них родились дети Аня и Яша, а когда В.Я. было лет 60, родился еще один сын Денис.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Примечания
1
Героев 120-й, 22