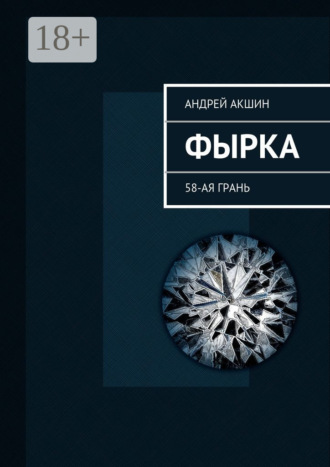
Полная версия
Фырка. 58-ая грань
О, эта извечная спутница любви, неразделённой любви, брошенной в одиночестве любви, – смерть. Она является маленькой точкой, коли смотреть ей в лицо, и тонкой, очень тонкой иглой, если извернуться и выхватить взором сбоку. Является тогда, когда любящий понимает, что любовь его уже одинока. А может, она одинока изначально… И в тот миг, когда приходит это понимание, смерть любви начинает расти и расти, пока из иглы не превращается в копьё со страшным рубящим наконечником. Наконец концов! Наконец-то наконечник готов разрубить одинокую грудь и изранить то, за чем она и пришла, вечная спутница любви, её смерть. А раны от копья глубоки! И израненная душа прощается с любовью. Два пути у одинокой души: остаться жить без любви, в незаживающих рубцах, или уйти, захватив своего палача. Умереть.
Мужчина, муж и хозяин сада, стоял и смотрел пустыми очами, а округ – пустота. Пепельноволосый прикрыл золотые глаза, Медовая же встала между мужем и путником, заслоняя собой лежащего. Тишина. И в ней-то Фырка услышала слабый отзвук скрежета, да, чертовка знала – так звучат шаги бсов, демонов убийства. Она испугалась. Ой, как она испугалась! Не за себя. За хранителя 58-ой грани.
– Я возьму кое-что необходимое, – сказал чужим голосом мужчина, голосом уже смертельно раненой души. Женщина ничего не ответила, словно и не слышала своего мужа. Она опять склонилась над пепельноволосым. Она беспокоилась о нём.
Юрий Маркович зашагал деревянными ногами по деревянными плахам пола, туда, в дальний чулан. А скрежет нарастал! Уже и лязгнуло. И Фырка помчалась за мужчиной.
Он держал в руках вековой образ русского отчаяния. Обрез. Деревянными пальцами вгонял смерть любви в оба ствола. «Для неё и хранителя!? Для хранителя и себя?!» – Фырка пыталась поймать волну, бьющую из мужчины, пытаясь прочесть его чувства. И по всему получалось, что угроза нависла над златооким. Плохо! И Фырка собрала всё своё умение, использовала весь дар-способности. «Попрощайся с рекой! Вначале попрощайся с рекой!» – яростно зашептала она в затылок хозяина сада. И угадала! И заставила! Словно вспомнив нечто неимоверно важное, мужчина шагнул в заднюю дверь дома, быстро прошёл к забору в глубине сада, за баньку и, открыв низенькую скрытую калитку, побежал вниз к небольшой извивающейся речушке. Фырка за ним!
Юрча сидел на корточках над водой, положив обрез на колени. Одна рука придерживала укороченное ружьё, вторую ладонь он опустил в серую воду. Фырка… Она так боялась за златоокого. «И потом, – решила Фырка, – он ведь хочет застрелиться, ну и пусть застрелится, но прежде не успеет убить хранителя!» И вскрикнула за спиной мужчины ребёнком, кричащим от боли. Юрий Маркович вздрогнул, пальцы рук непроизвольно сжались, одной руки поймали воду, другой – курки. Два заряда разорвали ещё живую плоть груди, уже мертвеющее сердце.
– Ты чиво мимо бежишь? Али беда случилась? – анчутка загородил дорогу Фырке.
– Беда… Беда? – чертовкина курносость стала вдруг меньше. – Беды никакой нет.
– Врёшь! – неожиданно завопил банник. Щёки его набрякли. – Врёшь!
– Не фыркай, а то я те фыркну! – огрызнулась Фырка.
Анчутка не посторонился и не попятился, но закрыл глаза и принялся шептать заговор. Чертовка горько усмехнулась. Она отогнала панику, оставив себе тревожное ожидание. И подождав, когда банник отбубнит, Фырка попросила: «Отойди. Я за себя не ручаюсь».
И в тот же миг полыхнуло! Ярко до рези в очах. Когда они примчались к воротам, пятьдесят седьмая алмазная пыль стекала чёрным графитом на землю, оставляя тёс измазанным сажей. И лужица на гальке шипела кислотой.
– Вот вам и пятьдесят восьмая грань! – из пустоты раздался голос деревниша. Фырке и анчутке даже помстилось, что в щелях забора мелькнула горбатая спина.
2
Медовая хоронила мужа скорбно, но без слёз. Прокурорский закрыл дело быстро, явное самоубийство, чего там расследовать… А пепельноволосый сразу же был перенесён в соседний дом за номером 59, к одинокой старухе, подруге Медовой, по фамилии всеми забытой, но многими посельчанами считавшейся злой и мстительной. Одни, за глаза, называли старуху Вронской. Другие, в спину, – Вороной. Медовая же называла старуху по имени-отчеству, Марья Михална.
Медовая приходила к соседке и тогда плакала-горевала, глядя на златоокого, который продолжал лежать полуживым. Это было жестоким и нечестным по отношению к прошлой жизни, но такая она и есть любовь, замешанная на страсти, в которой всегда живёт смерть, иногда предваряя любовную страсть, а бывает и, завершая страстную любовь. Приходила Медовая один раз в день. А вот Фырка там поселилась. Поначалу она проникала через чердачное окно и даже через печную трубу, но, обнаружив слуховое окошечко над ротондой, выбрала этот путь. А ещё Фырка, обернувшись чернохвостой алтайской белкой, носилась по деревьям, обрушиваясь на ветки всем своим гневом, ломая яростью многие из них.
Ярость понимания, что придётся ответить.
Фырку томило предчувствие, тревога недогляда. Ведь не чертовскую шалость она совершила у речки. Это у людей милицейские и полицейские виновных не нашли, а среди нечистой силы – свои следопыточники. И они лишь ждут указки на Фырку. А кто может указать? Известно кто, – ведьма. Или того хуже, ведьмак. Речной холодок холодил грудь и тянул туда, к реке, где полыхнул обрез. И Фырка решилась.
До пробуждения светила, она тихо-медленно скользила вдоль и поперёк воды. Все вокруг спят, только на краю посёлка, чертовка это слышит, заезжий молодец уламывает пухлозадую девицу надкусить сладкого яблочка в заброшенном саду. Никого нет на реке, это-то и плохо. Как учил Свирид, коли ждёшь да встретишь, придёт тот, кого не ждали и знать не хотели.
– Люди – они, конешно, наблюдательны, – говорил Свирид, – но завсегда выдумывают пояснения, они жа – бесполезные заклинания, и сами в них верят, надеются, что это им поможет.
– К примеру? – спрашивала Фырка, почёсывая роговицы на макушке.
– Например, люди часто повторяют, толкуя об опчестве, в котором проживают да об своём начальстве, дескать, рыба гниёт с головы, – Свирид покхэкал со значением, что означало всезнающий смех и продолжил: – А ведь понятно и самому последнему запечному, што рыба, как и всякая жрущая тварь, гниёт с брюха, с требухи.
Ай, верно говорил Свирид! Фырка собралась вспомнить ещё какие-нибудь наставления опекуна, но на врезающейся в воду косе примялась трава, лунный столп качнулся, а в реке заплескалось. Раз, и на бережку какой-то блондин в полувоенной одежде, почти в форме. Два, – а из речки на берег лезет недоросточек с пёстрыми волосами и щучьей мордочкой.
– Что имеешь доложить? – внятно и очень строго спросил блондин.
– Информацию, господин Грамотей, – подобострастно пробулькал водяной и пустил по воде очередь пузырей, от большого до малого. – О переступлении черты залётной чертовкой.
Фырка затаилась до тоньщины осоки. «Сам Недоучка! Вот и послед… следствие!»
– Всего лишь? – поморщился блондин, поправляя клапан кармана на френче.
– А вы послушайте! – недоросточек зашевелил пёстрыми волосами, вытянул до невозможной вытянутости щучью пасть и зашептал Грамотею в ухо. Тот, хотя и морщился пренебрежительно, слушал сосредоточено, лишь трижды вмешавшись в шёпотный доклад, но не прерывая водяного. В первый раз Недоучка сказал «ага», во второй воскликнул «подстрекательство!», в третий, заключил – «понятно…»
Фырке тоже стало понятно. Едва слышно, стрекозой – стрекозой, на бреющем полёте, чуть ли не касаясь травы и огибая репей, она убралась от реки подальше. «Надо подумать, – думала Фырка. – Надо подумать».
Чуткая барабанная перепонка Грамотея уловила чужую тревожность. Он закрыл ухо ладонью. Его можно оставить в размышлении, но… Опять требуются пояснения.
Грамотей Недоучка, – как же его когда-то звали? А-а, неважно! Родился человеком, и пришло время, нарядился гимназистом. И ходил в свою гимназию, огибая старое кладбище и новую водонапорную башню, двигаясь наискосок через Владимирку, мимо шляпной мастерской, в которой ничего кроме картузов и фуражек отродясь не шили. Вот это-та мастерская, над входом в коею вензелилась надпись «Салон», и сбила гимназиста с проторенного пути классических познаний на извилистую дорожку проклятий и заклятий.
А ведь и день-то тогда случился не совсем обычный. Бакенбардовый гимназический наставник послал первого попавшегося ему под руку недоросля с поручением. В Армянский переулок. Поручением был увесистый свёрсток из грубой фабричной бумаги, а для найма извозчика недорослю была вручена целая полтина, пятьдесят копеек серебром. «Ха!» – сказал сам себе гимназист, выйдя из учебного корпуса, и договорился с развозчиком картузов, что тот поедет на Бульвар через Маросейку, а за крюк получит двугривенный. Двадцать копеек гимназист подготовил своих собственных, радуясь навару, ибо рос в семье не шибко состоятельной, а коляска бежала весело, под кряхтенье рессор и анекдотцы развозчика о кружевных женских панталонах, анекдотцы, которые тот выдавал за собственные наблюдения из ночной городской жизни. Такие разговоры настроили гимназиста на фривольно-мечтательный лад и, спрыгнув у пекарни на углу, он, подскакивая козликом, направился по заданному адресу, романтично разглядывая барышень и душно-фантазийно, строгих мадамов. Уже в переулке он посторонился с мостовой, опасаясь лакированного экипажа, который остановился у того адреса, куда и направлялся гимназист. А из экипажа на тротуар шагнула обладательница такой лебяжьей шеи, что – ах! жизнь разделилась на «до» и «после».
За парадной дверью, приветливо и широко распахнутой привратником перед дамой, и служебно скучно перед посыльным-гимназистом, оказался холл, уходящий в массивные двери с бронзовыми табличками на них. «Так это контора», – понял недоросль.
– Вам сюда, – сказал, оглядев мельком свёрток, бородатый «эспаньолкой» привратник и ткнул коротким указательным пальцем в перезрелой вишни цвета дверь с табличкой «оценка». – Но придётся подождать, там посетитель, – и ткнул указательным пальцем другой руки в венский стул у стены.
Гимназист почему-то догадался, что посетитель – это та самая дама с лебяжьей шеей. Он сел на стул, тут же показавшимся неудобным. Повертевшись и поёрзав, недоросль понял, что причина неудобства вовсе не в сиденье стула, а в нём самом, в сидящем на стуле. И даже не одно – беспокойств образовалось два: свёрток на коленях и «лебяжья шея» за дверью.
– А…, – собрался задать бессмысленный вопрос привратнику гимназист, но тот куда-то пропал.
– Вы что-то спросили? – из полуоткрывшейся двери с надписью «оценка» выглянул конторский необычного вида. Конторского на нём был мундир, немного схожий с формой гимназиста, однако и всё же, больше похожий на форму дворника из богатого околотка, только без фартука, да гладко выбритые щёки. Глаза же и руки получились совсем уж не конторские. Глаза – горячие, руки – холодные.
Гимназист почувствовал их лёд на локте, сквозь сюртучок, – это конторский обхватил его руку длиннющими пальцами. Жар от взгляда проник недорослю под и за веки, и слёзы сами потекли к уголкам губ, цепляясь за пушок усиков.
– А-а-я…, – замычал гимназист, перейдя от первой буквы алфавита сразу к последней.
– Я долго буду ждать?! – требовательно и громко, но никак не капризно прозвучал женский голос, а дверь распахнулась настежь и «лебяжье шея» воззрилась на конторского. Недоросль мог поклясться, что увидел, как дама поддала конторскому коленом, ибо тот слегка подпрыгнул, а гимназист обнаружил в просвете распахнувшейся тёмно-зелёной узкой юбки ажурный чулок и смуглую полосу обнажившейся ляжки.
– Сей момент, госпожа Берстенёва! – поспешил заверить даму конторский. – Сей момент прибудет посыльный, мне уже телефонировали.
– А может посыльный – этот молодой кавалер? – подняла бровь, похожую на соболью, Лебяжья Шея, вторую – горностаевую, оставив на месте.
– Вы сударь, от шляпного салона? – обратился к гимназисту конторский. Недоросль кивнул.
– Посылочка?! – конторский показал подбородком с ямкой на свёрток.
– Да, – отчего-то сипло ответил гимназист и протянул свёрток, который сразу же упал и раскрылся.
– Ах! – воскликнула дама.
– Чёрт! – взвизгнул конторский. Зрачки его стали холодными, а ладони покрылись испариной. На мозаичном полу лежали чёрные камни, похожие на древний уголь кокс, а на них плавно опускались необычные золотистые перья птицы.
– Нас вновь надули, или я чего-то не знаю, господин Ларискин? – Берстенёва впилась взором в конторского. «Ведьма!» – вдруг решил гимназист. Мало того, и также вдруг, он проявил недюжинное знание, превышающее любую интуицию, возопив: – Птица Феникс! Она сгорела!
– Грамотей, – криво усмехнулся конторский.
– Недоучка, – нежно добавила Лебяжья Шея.
Так блондин, которого испугалась Фырка у реки, получил своё имя. Знаменитое, в некоторых кругах, имя. Она вспомнила и должность Грамотея Недоучки. Судейный Приставала.
«Лишь блудливая баба загодя вожжей не чует». Смысл этой поговорки гимназист понял позже. Когда основательно узнал госпожу Берстенёву. А уж он узнал… И женскую плоть, и жизнь в ожидании новой встречи с этой плотью. Жизнь модную, мистическую. Лебяжья Шея всё это называла коротко – «муар». Почему так, не объясняла.
Жизнь же вокруг никакому муару не соответствовала. В далёкой Мангурии шла война, и гимназист, в общем-то, домашний мальчик с удивлением наблюдал, как его одноклассники, тоже в большинстве своём домашние мальчики, окунались во взрослую жизнь, совсем не в такую, с которой познакомился он. В жизни одноклассников зашуршали листовки, зазвучали «марсельезы», а потом и баррикады взялись перегораживать улицы старой столицы. А зимой уже и хоронили первого одноклассника, убитого в уличных боях. Гимназист побывал на кладбище, но смотрел на похороны другими глазами. Отстранённым взглядом.
Ведь Грамотей тогда угадал, в посылке действительно находилось то, что осталось от птицы Феникс. А, кроме того, Недоучка горел страстью к госпоже Берстенёвой, рискуя превратиться в такие же уголья, что выпали из посыльного свёртка. Подход к сокровенностям Лебяжьей Шеи имел три ступеньки. Первой подвернулась швея из шляпного салона, шьющего картузы, – вертлявая девица с бойкими глазками. Соитие случилось пыхтящим и скучным. И в первый, и во второй, и в третий разы. Потому гимназист споро шагнул на вторую ступеньку, заведя интригу с тётушкой приятеля-одноклассника, молодой и строгой, даже чопорной дамой, супругой заседателя какой-то важной комиссии. Что-то уже заложила Берстенёва в натуру гимназиста Грамотея и чопорная, совсем не глупая дама не устояла перед юнцом. Но Грамотею было хотя и забавно, однако скучно. Помыкавшись и намыкавшись с месяц, гимназист отстранился от дамы, объяснив такое поведение муками совести и стыдом перед супругом строгой тётушки одноклассника, достойным чиновником. И вот, третья. Гостившая в московском доме подруги по Смольному институту петербурженка, с небольшими, но страстными глазами. Гимназист познакомился с ней на поэтическом вечере в особнячке больших любителей поэзии. Смолянка обожала не только стихи, но и всё мистическое, а уж этого гимназист теперь мог предоставить сполна, и как раз революционной и святочной зимой барышня отдала ему всё. Так поэтично называла она девственность. И с этой-то тоской пиршества плоти Грамотею было совсем непросто развязаться – узелок наоборот затягивался и затянулся до беременности гимназистки.
– Отчего мой страстный любовник грустен, как Пьеро? – Лебяжья Шея пресыщено втирала в сосцы молодое семя. Она лежала высоко на подушках, широко и лениво раскинув согнутые в коленях ноги, и следила за Грамотеем из-под полуопущенных ресниц. Обнажённый вьюнош курил папироску у окна, и курил несколько нервно.
– Дурацкая какая-то ситуация, – Грамотей вмял окурок в фарфор. – Дура-институтка забеременела
– Зачем? – удивилась Берстенёва. – Неужто родить от любимого хочет?
– Так бывает? – Грамотей удивился куда больше Берстенёвой, такого оборота он не предполагал.
– Ах, Грамочка…, – Лебяжья Шея потрепала юношу по мешочкам с семечками. – Лишь блудливая баба, такая, как я, загодя вожжей не чует. Остальные, либо сразу к своей заднице их примеривают, либо на мужичков накидывают. Твоя бурсачка из каких?
– Не знаю, – быстро ответил Грамотей и сия быстрота сказала, что он-то, как раз знает. Но Берстенёва почему-то не обратила внимания на скорость ответа. Она оставила грудь в покое, задрала ноги повыше, поболтала ими и предложила: – Отрави её и делу конец.
– Как?! – воскликнул гимназист, выказывая возбуждения больше, чем возмущения.
– Ядом, – в данный момент Лебяжья Шея всё понимала и объясняла буквально.
Однако углубиться в обсуждение фармакологических особенностей такого предложения у любовников не получилось, ибо настойчиво задребезжал колокольчик парадного входа. Служанка с профессиональным именем Чистюля загремела засовом, и вслед за лязганьем из прихожей комнаты донеслось старческое покашливание. Худое лицо служанки просунулось в дверь будуара и тонкие бескровные губы объявили: «Пришёл».
– Пускай войдёт, – скомандовала Берстенёва, а гимназисту показала: – Прикрой срамоту-то. – Сама же так и осталась лежать, раздвинув ноги в сторону двери.
– Мышеловка нараспашку…, – проворчал вошедший старик. Вид его был весьма необычен. Горбун в восточном халате с седыми волосами, заплетёнными в косу. – Разврат сплошной.
– Да ну тебя, деревниш! – засмеялась Лебяжья Шея. – Я позабавить тебя хотела. Порадовать.
– Невелика радость, – буркнул горбун и, мельком глянув на гимназиста, завернувшегося в плед, прошёл в угол и сел в невысокое кресло.
– Невелика, – согласилась Берстенёва, но явно вкладывая в слово иное понимание. – Тем и беру. Мужеский пол очень уж малость да узость ценят.
– Тьфу, – сказал горбун, опёрся ладонями на изогнутый посох и уставился взором в узоры хиванского ковра, закрывшего пол.
– Не ворчи, – Бертенёва уже на ногах, в сером с золотистой искрой платье со шлейфом и в шляпке с золотым пером. – Глаза-то подними.
Горбун посмотрел на даму пречёрными глазами, таких Грамотей ещё не видел, оставил левую, похоже суховатую кисть руки, на набалдашнике, а правой снял клиновидную багровую, с чёрной каймой шапочку и утёр ей своё узкое вытянутое лицо.
– Неужто и уголья есть? – спросил он тихо, будто боясь спугнуть удачу. – Гонец передал, што ты виды на сделку имеешь.
– Есть. И имею, – тоже тихим голосом ответила Берстенёва.
– Ага, – удовлетворённо крякнул деревниш и снял ладонь с набалдашника посоха. Пронзительный свет побежал от синего глобуса, и гимназисту показалось, что в этом свете лицо Берстенёвой на мгновение стало необычайно уродливым, а шея вся переплелась страшными жилами. Но только мгновение и синий свет растаял. А горбун спросил: – Продаёшь или меняешь?
– Меняю, – сдавлено, словно затаив дыхание, произнесла Лебяжья Шея. – На две родных половинки серого сапфира.
– Всё колдуешь… – дребезжаще хихикнул старик. – Всё пятьдесят восьмую грань ищешь?
– Ищу.
– А перья? – спросил деревниш, а в руках его белый шёлковый кошель с узорчатым красным полумесяцем.
– Перья не меняю, они мне к лицу – очень причёску украшают, – усмехнулась колдунья.
– Что за пятьдесят восьмая грань такая? – спросил гимназист, но ответом его никто не удосужил, а и странно не знать, что бриллиант имеет пятьдесят семь граней.
Что происходило далее осталось в памяти Грамотея фантасмагорической картиной. Ковёр превратился в зелёное сукно канцелярского стола, но расчерченное мелом на геометрические фигуры, числа и знаки. «Игорный стол», – понял гимназист. Берстенёва опустилась на колени, у колен – раскрытый свёрток с антрацитовыми камнями. Деревниш присел на корточки и метнул в середину сукна самоцветную пуговицу с тремя отверстиями для нитей, золотые обрывки которых ещё торчали. Пуговица упала на пустое место, чистое от меловых линий, чисел и знаков. «Замётано!!» – чужим голосом закричала Берстенёва. Она подпихнула свёрток горбуну, а тот достал из кошеля два невзрачных камешка и положил их перед колдуньей. Дрожащими пальцами Берстенёва соединила сапфиры и они слились в один, словно капли ртути. И как он засверкал! Чело Лебяжьей Шеи текло его отсветом.
– Сделка честная? – спросил горбун.
– Честная! – от восторга обладания сапфиром колдунья утратила бдительность.
– Тогда я имею право наградить крупье! – вскричал деревниш и вжал в ладонь Грамотея фишку-пуговицу.
– Стой! – взвизгнула Берстенёва, но было поздно, кулак гимназиста сжал награду. А старик исчез! Вместе со свёртком. Только ниточка синего света таяла у двери.
– Отдай! – отчаянно закричала колдунья и ладонями, с которых опадали сгнившие ногти, потянулась к гимназисту.
– Нельзя. Не положено. Не по чину. – Спокойно сообщила Чистюля. Она встала между Грамотеем и Берстенёвой. Когда и как возникла худосочная служанка, гимназист не заметил.
– Без того, кто принёс останки всегда возрождающейся птицы Феникс, сделка бы не состоялась. Он – необходимый свидетель и его награда по праву, – твёрдо произнесла Чистюля, беря Грамотея за руку. – Я выведу тебя.
– Лазутчица! Скормлю тебя крысам! – вопила колдунья, но не двигалась с места, только меняла личины, среди которых шакалья была одной из самых приятных. Чистюля тащила вон отсюда оцепеневшего гимназиста, который и не вспомнил об одежде, так в пледе и оказался на улице, где их уже ждала пролётка.
– Их-хи-йя! – свистнул-гикнул кучер, заросший чёрной до земли бородой по уши и глаза, и, грохоча по булыжникам пролётка унесла их прочь.
Прочью оказалась ведьмачья жизнь. Вот он-то, заматеревший сотней лет, шёл по следу Фырки.
Но разве он один? Воздух скрежетал предчувствием появления бсов. Опять же и люди не остались в стороне. И родственник Юрия Марковича, неудовлетворённый наследством, обратился к приятелю, о наследстве не заикаясь, но объясняя всё одной лишь родственной любовью, а приятель, помявшись смущённо, попросил помощи у специалиста. Специалист открыл ноутбук, выудил сведения о посёлке и о Медовой, затем сделал пару звонков посредством смартфона и к удивлению приятеля родственника Юрия Марковича согласился.
Германский вагон, то есть, немецкое авто затормозило у крытого колодца и навстречу фольклорной женщине из советского кино середины XX века шагнул Ястреб Апричин. Коромысло отсутствовало на покатых борцовских плечах бабы, воду она несла в руках, понятно, упакованную в вёдра.
– С вечира в рукомойку налила, а утром-то глядь, оно и пустое! – Восторженно сообщила баба, колыхнув животом, заползшим на растёкшуюся грудь. Апричин вдумчиво поддержал разговор: – Бывает.
– Ищё как бывает, когда девка жопу умывает! – Запредельно восхищённо поделилась природной наблюдательностью баба и, покачивая желудком из стороны в сторону, удалилась за зелёный щербатый забор.
– М-да… – сказал Ястреб интонацией интеллигентной тётушки по отцовой линии, свистнул электронным замком авто и отправился к дому за номером 57, так как номер 59 он видел.
Апричин поспел к самому разгару событий.
Примерно за час до этого самого разгара в саду появился Грамотей Недоучка. Подпритихли птички-синички, попрятались мышки-норушки, не говоря уже о букашечках. Анчутка тут же превратился в желающего выслужиться дозорного и выскочил с вопросом:
– Чиго ищите, господин хороший?
– Мелкую чертовку, – коротко и конкретно ответил блондин.
– Оне отсутствуют, – как-то даже подобострастно доложил банник. – У соседей ошиваются. А вы случайно не Судейный Приставала, он жа господин Грамотей.
– Он самый, – ответил Недоучка, – и вовсе не случайный.
– Значица, чигой-то сурьёзное? – вытянулся во фрунт анчутка.
– Ты, вот что, – Грамотей присел на коротенькую лавочку у столба с большим медным рукомойником. – Придуриваться прекращай, заканчивай из себя амбарного времён крепостного права строить, а пригласи-ка девицу ко мне на разговор.
– Кого, Фырку? – глупо спросил анчутка.
– Если так зовут, то её, – вздохнул Грамотей и глянул на банника столь строго, что тот забыл свою боязнь покидать территорию вокруг бани и отправился в соседний дом, к Вороне.
А Фырка заспешила в соседний дом потому, что почувствовала изменения, заспешила сразу же, как умчалась стрекозой от реки. Но была задержана тёмно-синим вороном. Вначале-то она приняла птицу за очередной синеватый булыжник, кои вдруг слишком часто стали попадаться на глаза, но нет, чёрный клюв щёлкнул едва слышно и хрипло спросил:
– А в своё ли дело ты лезешь, чёртова мелочь?
– Уж не в твоё! – нагло по обыкновению ответила Фырка, у самой же спина напряглась страхом и лопатки стали такими острыми, что вот-вот проткнут кожу.
– Там у реки ты уже нырнула в полынью, – заметил ворон. – И лёд неотвратимо затягивает её. Ты превысила свои полномочия и сама это знаешь.
– Тебя не спросила! – дурея от страхов предчувствия, завопила чертовка.




