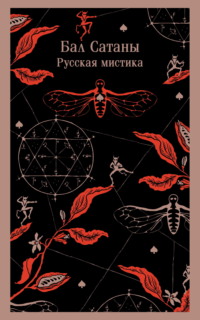Полная версия
Киевские ведьмы
Вдруг раздался, как внезапный порыв бури, густой, сиповатый рев черного медведя, сидевшего на подмостках, – и покрыл собою все: и звон гудков и цымбалов, и свист волынок и сопелок, и гарканье, хохот и говор веселившейся толпы. Все утихло: каждый из плясунов, подняв в эту минуту одну ногу, как будто прирос на другой к своему месту; те из них, которые подпрыгнули вверх, так и остались на воздухе; отворенные рты не успели сомкнуться, поднятые в пляске руки и вздернутые вверх плечи и головы не успели опуститься; грабли жида на цымбалах и смычки чертенят на гудках словно окаменели у струн. Черный медведь протянул костяную руку – и мигом все запели:
Высоки скокиВ сороки,Низки поклоныВ вороны, —подскокнули снова вверх и повалились на землю, головами к тому месту, где сидел медведь. «Ах ты, проклятое племя! – шептал про себя Федор Блискавка, – Оно же еще смеет и кощунствовать над обрядами православных и напевать честные весельные песни на своем мерзкостном шабаше перед этим уродом в насмешку над добрыми людьми! Чтоб вы все провалились в тартарары, да и женушка моя с вами; чтоб вам всем по горячей пепельной головне в глотку: тогда бы небось позабыли вы горланить и запели бы иную песню, чертова челядь!»
Черный медведь долго принюхивался во все стороны и наконец проревел, как из бочки: «Здесь есть чужой дух!» В минуту все всполошилось: нечистые духи, ведьмы, колдуны, упыри, русалки – все бросились искать с зверскими, кровавыми глазами, с пеною бешенства на губах. И Катруся – Катруся была из первых! Сердце замерло у Федора, холод пронимал его до костей. «Теперь-то, – думал казак, – настал мой смертный час!» Прижавшись вплоть к земле за дровами, он ни жив ни мертв выглядывал исподлобья. Вдруг видит: Катруся первая подбежала к тому месту, заглянула за костер, злобно сверкнула на мужа своим огненным взором, скрыпнула зубами… но в тот же миг сорвала с себя намитку, накинула на Федора, сунула под него лопату, провела пальцем черту по воздуху на Киев – и, прежде чем Федор опомнился, он уже лежал в своей хате на постеле.
Когда чувства его поуспокоились, он сел на постелю, как человек, едва выздоравливающий от горячки, в которой грезились ему страшные мечты. Скоро мысли его приняли течение более правильное: он припоминал себе и страхи, и смешное, отвратительное гаерство прошлой ночи, и жену свою, с ее любовью, с ее нежными ласками, с ее заботливостью о нем и о доме, с ее детскою игривостью… «И все это было только притворство! – думал он. – Все это нашептывала ей нечистая сила, чтобы лучше меня обмануть». То вдруг представлялась ему жена в минуту чародейских обрядов, то опять сверкала на него огненным взором и скрежетала зубами, как на Лысой горе… В задумчивости он и не приметил, что жена стояла подле него. Федор, взглянув на нее, вздрогнул, словно босою ногою наступил на змею. Катруся была бледна и томна, губы се помертвели, глаза покраснели от слез, которые ручьями текли по ее лицу.
– Федор! – сказала она печально. – Зачем ты подсматривал, что я делала? зачем, не спросясь меня, пускался на Лысую гору? зачем не хотел довериться жене своей?.. Бог с тобою! ты сам растоптал наше счастие!..
– Прочь от меня, змея, злодейка, ведьма богомерзкая! – отвечал Федор с негодованием и отвращением. – Ты опять хочешь меня обойти бесовскою лестью?.. Так нет, не надейся!
– Послушай, Федор, – подхватила она, обвив его руками вокруг тела, припав головою к нему на грудь и умильно смотря ему в глаза. – Послушай! Не я виновата, мать моя всему виною: она неволей отвела меня на шабаш, неволей обрекла в ведьмы и вымучила из меня страшную клятву… Мне было тогда еще четырнадцать лет. И тогда я нехотя летала на шабаш, боясь матери: ведьмы и все их проклятые обряды и все их проклятые повадки были мне как острый нож, а от одной мысли про шабаш мутило у меня на душе. Суди же, каковы они были для меня, когда ты стал моим мужем – ты, кого люблю я, как душу, как свое спасенье на том свете… Не раз хотела я отшатнуться от шабаша, не бывать на нем; только под исход месяца, чем больше я о том думала, тем больше меня мучила тоска несказанная. Ты сам знаешь, каково мне тогда бывало… Не приведи бог и татарину того вытерпеть!.. И сколько я ни силилась одолеть тоску-злодейку, сколько ни отмаливалась – ничто не помогало! Все мне и днем и ночью кто-то надувал в уши про шабаш, все мне так и мерещилось, чтоб быть там. А наступал срочный день – какая-то невидимая сила так и тянула меня туда назло моей воле. Когда же я прилетала на Лысую гору, там меня словно дурь охватывала: буйно бросалась я в толпу ведьм, колдунов и всей бесовщины, сама себя не помнила, что делала, и не могла не делать того, что другие… Как бога с небес, ждала я страстной недели: тогда кинулась бы я в ноги чернецам божьим и упросила бы их, чтобы заперли меня на все последние три дня в Пещерах, до самой воскресной заутрени, и отмолили бы от меня бесовское наваждение… Теперь это поздно! Ты, милый муж мой, сокол мой ясный, ты сам погубил и меня, и себя и навеки затворил от меня двери райские…
– Так живи же с своими родичами, лешими да русалками, коли запал тебе след туда, где веселятся души христианские!.. Сгинь отсюда, оставь меня…
– Не властна я тебя оставить! – перервала его Катруся, сжав его еще крепче в объятиях и, так сказать, приросши к нему. – Я тебе сказала, что на мне лежит страшная клятва… В силу этой клятвы кто бы ни был из близких нам: муж ли, брат ли, отец ли… кто бы ни был тот, кто подсмотрит наши обряды, – но мы должны… ох! тяжело сказать!.. должны высосать до капли кровь его…
– Пей же мою кровь!.. Мне тошно жить на свете! Что мне в жизни?.. Одна мне приглянулась, стала моей женою; любил я ее пуще красного дня, пуще радости, и та обманула меня и чуть не породнила с бесовщиной… Все мне постыло на этом свете… Пей же, соси мою кровь!
– И мне не жить после тебя на свете! Увидит то душа твоя. Грустно мне, тяжко мне, что злая доля развела нас и здесь, и там… – Катруся зарыдала и упала в ноги мужу.
– Об одном только прошу тебя, – продолжала она, – погляди на меня умильно, дай на тебя насмотреться, поцелуй меня впоследние и прижми к своему сердцу, как прижимал тогда, когда любил меня!
Добрый Федор был тронут слезными просьбами жены своей. Он ласково взглянул на нее, обнял ее, и уста их слиплись в один долгий, жаркий поцелуй… В ту же минуту она рукою искала его сердца по биению… Вдруг какая-то острая, огненная искра проникла в сердце Федора, он почувствовал и боль, и приятное томление. Катруся припала к его сердцу, прильнула к нему губами; и между тем, как Федор истаивал в неге какого-то роскошного усыпления, Катруся, ласкаясь, спросила у него: «Сладко ли так засыпать?»
– Сладко!.. – отвечал он чуть слышным лепетом – и уснул навеки.
Тело казака похоронено было с честью усердными его товарищами. Ни жены, ни тещи его никто не видел на погребении; но в следующую ночь жители Киева сбежались на пожар: хата Федора Блискавки сгорела дотла. Тогда же видно было другое зарево от Лысой горы, и смельчаки, отважившиеся на другой день посмотреть вблизи, уверяли, что на горе уже не было огромного костра осиновых дров, а на месте его лежала только груда пеплу, и зловонный, серный дым стлался по окружности. Носилась молва, будто бы ведьмы сожгли на этом костре молодую свою сестру, Катрусю, за то, что она отступилась от кагала и хотела, принеся христианское покаяние, пойти в монастырь и что будто бы мать ее, старая Ланцюжиха, первая подожгла костер. Как бы то ни было, только ни Катруси, ни Ланцюжихи не стало в Киеве. О последней говорили, что она оборотилась в волчицу и бегала за Днепром по бору.
Теперь Лысая гора есть только песчаный холм, от подошвы поросший кустарником. Видно, ведьмы ее покинули, и от того она просветлела.
Кикимора
(Рассказ русского крестьянина на большой дороге)
Вот видите ли, батюшка барин, было тому давно, я еще бегивал босиком да играл в бабки… А сказать правду, я был мастер играть: бывало, что на кону ни стоит, все как рукой сниму…
– Ты беспрестанно отбиваешься от своего рассказа, любезный Фаддей. Держись одного, не припутывай ничего стороннего, или, чтобы тебе было понятнее: правь по большой дороге, не сворачивай на сторону и не режь колесами новой тропы по целику и пашне.
– Виноват, батюшка барин!.. Ну дружней, голубчики, с горки на горку, барин даст на водку… Да о чем бишь мы говорили, батюшка барин?
– Вот уже добрые полчаса как ты мне обещаешь что-то рассказать о Кикиморе, а до сих пор мы еще не дошли до дела.
– Воистину так, батюшка барин, сам вижу, что мой грех. Изволь же слушать, милостивец!
Как я молвил глупое мое слово вашей милости, в те поры был я еще мальчишкой, не больно велик, годов о двенадцати. Жил тогда в нашем селе старый крестьянин, Панкрат Пантелеев, с женою, тоже старухою, Марфою Емельяновною. Жили они как у бога за печкой, всего было довольно: лошадей, коров и овец – видимо-невидимо, а разной рухляди да богатели и с сором не выметешь. Двор у них был как город: две избы со светелками на улицу, а клетей, амбаров и хлебных закромов столько, что стало бы на обывателей целого приселка. И то правда, что у них своя семья была большая: двое сыновей, да трое внуков женатых, да двое внуков подростков, да маленькая внучка, любимица бабушки, которая ее нежила, холила да лелеяла, так что и синь пороху не даст, бывало, пасть на нее. Все шло им в руку, а все крестьяне в селении готовы были за них положить любой перст на уголья, что ни за стариками, ни за молодыми никакого худа не важивалось. Вся семья была добрая и к богу прибежная, хаживала в церковь божию, говела по дважды в год, работала, что называется, изо всех жил, наделяла нищую братию и помогала в нужде соседям. Сами хозяева дивились своей удаче и благодарили господа бога за его божье милосердие.
Надобно вам сказать, барин, что хотя они и прежде были людьми зажиточными, только не всегда им была такая удача, как в ту пору: а та пора началась от рождения внучки, любимицы бабушкиной. Внучка эта, маленькая Варя, спала всегда с старою Марфой, в особой светелке. Вот когда Варе исполнилось семь лет, бабушка стала замечать диковинку невиданную: с вечера, бывало, уложит ребенка спать, как малютка умается играя, с растрепанными волосами, с запыленным лицом; поутру старуха посмотрит – лицо у Вари чистехонько, бело и румяно как кровь с молоком, волосы причесаны и приглажены, инда лоск от них, словно теплым квасом смочены; сорочка вымыта белым-бело, а перина и изголовье взбиты, как лебяжий пух. Дивились старики такому чуду и между собою тишком толковали, что тут-де что-то не гладко. Перед тем еще старуха не раз слыхала по ночам, как вертится веретено и нитка жужжит в потемках, а утром, бывало, посмотрит – у нее пряжи прибавилось вдвое против вчерашнего. Вот и стали они подмечать: засветят, бывало, ночник с вечера и сговорятся целою семьею сидеть у постели Вариной всю ночь напролет… Не тут-то было, незадолго до первых петухов сон их одолеет, и все уснут, кто где сидел, а поутру, бывало, смех поглядеть на них: иной храпит, ущемя нос между коленами; другой хотел почесать у себя за ухом, да так и закачался сонный, а палец и ходит взад и вперед по воздуху, словно маятник в больших барских часах; третий зевнул до ушей, когда нашла на него дрема, не закрыл еще рта – и закоченел со сна; четвертый, раскачавшись, упал под лавку, да там и проспал до пробуду. А в те часы, как они спали, холенье и убиранье Вари шло своим чередом: к утру она была обшита и обмыта, причесана и приглажена, как куколка.
Стали допытываться от самой Вари, не видала ли она чего по ночам? Однако ж Варя божилась, что спала каждую ночь без просыпу, а только чудились ей во сне то сады с золотыми яблочками, то заморские птички с разноцветными перышками, которые отливались радугой, то большие светлые палаты с разными диковинками, которые горели, как жар, и отовсюду сыпали искры. Днем же Варюша видала, когда ей доводилось быть одной в большой избе, что подле светелки, – превеликую и претолстую кошку, крупнее самого ражего барана, серую, с мелкими белыми крапинами, с большою уродливою головою, с яркими глазами, которые светились, как уголья, с короткими толстыми ушами и с длинным пушистым хвостом, который, как плеть, обвивался трижды вокруг туловища. Кошка эта, по словам Варюши, бессменно сидела за печкой, в большой печуре, и когда Варе случалось проходить мимо ее, то кошка умильно на нее поглядывала, поводила усами, скалила зубы, помахивала хвостом около шеи и протягивала к девочке длинную, мохнатую свою лапу с страшными железными когтями, которые, как серпы, высовывались из-под пальцев. Малютка Варя признавалась, что, несмотря на величину и уродливость этой кошки, она вовсе не боялась ее и сама иногда протягивала к ней ручонку и брала ее за лапу, которая, сдавалось Варе, была холодна как лед.
Старики ахнули и смекнули делом, что у них в доме поселилась Кикимора, и хотя не видели от нее никакого зла, а все только доброе, однако же, как люди набожные, не хотели терпеть у себя в дому никакой нечисти. У нас был тогда в деревне священник, отец Савелий, вечная ему память. Нечего сказать, хороший был человек: исправлял все требы как нельзя лучше и никогда не требовал за них лишнего, а еще и своим готов был поступиться, когда видел кого при недостатках; каждое воскресенье и каждый праздник просто и внятно говаривал он проповеди и научал прихожан своих, как быть добрыми христианами, хорошими домоводцами, исправно платить подати государю и оброк помещику; сам он был человек трезвенный и крестьян уговаривал отходить подальше от кабака, словно от огня. Одно в нем было худо: человек он был ученый, знал много и все толковал по-своему.
– А разве крестьяне ему не верили?
– Ну, верили, да не во всем, батюшка барин. Бывало, расскажут ему, что ведьма в белом саване доит коров в таком-то доме, что там-то видели оборотня, который прикинулся волком либо собакой; что в такой-то двор, к молодице, летает по ночам огненный змей, а батька Савелий, бывало, и смеется, и учнет толковать, что огненный змей – не змей, а… не припомню, как он величал его: что-то похоже на мухомор; что это-де воздушные огни, а не сила нечистая; напротив-де того, эти огни очищают воздух; ну, словом, разные такие затеи, что и в голову не лезет. Это и взорвет прихожан, они и твердят между собою: батька-де наш от ученья ума рехнулся.
– Глупцы же были ваши крестьяне, друг Фаддей!
– Было всякого, милосердый господин, ум на ум не приходит, были между ними и глупые люди, были и себе на уме. Все же они держались старой поговорки, отцы-де наши не глупее нас были, когда этому верили и нам передали свою старую веру.
– Вижу, что благомыслящий священник не скоро еще вобьет вам в голову, чему верить и чему не верить. Об этом надобно б было толковать сельским ребятам с тех лет, когда у них еще молоко на губах не обсохло, а старым бабам запретить, чтоб они не рассевали в народе вздорных и вредных суеверий.
– Как вашей милости угодно, – проворчал Фаддей и молча начал потрогивать вожжами.
– Что ж ты замолчал? Рассказывай дальше.
– Да, может быть, мои простые речи не под стать вашей милости, и у вас от них, как говорится, уши вянут?.. Мы, крестьяне, всегда спроста соврем что-нибудь такое, что барам придется не по нутру.
– И полно, приятель, видишь, я тебя охотно слушаю, и ты славно рассказываешь. Неужели ты доброю волею отступишься от гривенника на водку, который я тебе обещал?
– Ин быть по-вашему, батюшка барин, – промолвил Фаддей, веселее и бодрее прежнего. – Вот видите ли, старики и взмолились отцу Савелью, чтоб он отмолил дом их от Кикиморы. А отец Савелий и давай их журить: толковал им, что и старикам, и девочке, и всей семье только мерещилось то, чему они будто бы сдуру верили, что Кикимор нет и не бывало на свете и что те попы, которые из своей корысти потворствуют бабьим сказкам и народным поверьям, тяжко грешат перед богом и недостойны сана священнического. Старики, повеся нос, побрели от священника и не могли ума приложить, как бы им выжить от себя Кикимору.
В селении у нас был тогда управитель, не ведаю, немец или француз, из Митавы. Звали его по имени и по отчеству Вот-он Иванович, а прозвища его и вовсе пересказать не умею. Земский наш Елисей, что был тогда на конторе, в Дреком доме, называл его еще господин фон-барон. Этот фон-барон был великий балагур, когда, бывало, отдыхаем после работы на барщине, то он и пустится в россказни: о заморских людях ростом с локоть, на козьих ножках, о заколдованных башнях, о мертвецах, которые бродят в них по ночам без голов, светят глазами, щелкают зубами и свистом пугают прохожих, о жар-птице, о больших морских раках, у которых каждая клешня по полуверсте длиною и которых он сам видал на краю света… Да мало ли чего он нам рассказывал, всего не складешь и в три короба. Говорил он по-русски не больно хорошо, иного в речах его, хоть лоб взрежь, никак не выразумеешь, а начнет, бывало, рассказывать – так и сыплет речами, инда уши развесишь и о работе забудешь, да он и сам на тот раз нескоро, бывало, о ней вспомнит. Крестьяне были той веры, что у Вот-он Ивановича было много в носу; что до меня, я ничего не заметил, кроме табаку, который он большими напойками набивал себе в нос из старой, закоптелой тавлинки. Он, правда, выдумывал на барском дворе какие-то машины для посева и для молотьбы хлеба; только молотильня его чуть было самому ему не размолотила головы, и сколько ни бились над нею человек двенадцать – ни одного снопа не могли околотить, а сеяльная машина на одной борозде высеяла столько, сколько на целую десятину в нее было засыпано. Однако же крестьяне все по-прежнему думали, что в нем сидит бесовщина и что его недостанет только на путное дело. К нему-то на воскресной мирской сходке присоветовали старому Панкрату идти с поклоном и просьбою, чтоб он избавил его дом от вражьего наваждения.
Пантелеич с старухою пустились в барский двор, где жил тогда Вот-он Иванович, и принесли ему, как водится, на поклон барашка в бумажке, да того-сего прочего, примером сказать, рублей десятка на два. Наш иноземец было и зазнался: «Сотна рублоф, менши ни копейка». Насилу усовестили его взять за труды беленькую, и то еще – отдай ему деньги вперед. Да велел он старикам купить три бутылки красного вина: его-де Кикиморы боятся, да штоф рому и голову сахару – опрыскивать и окуривать избу с наговором. Нечего было делать, старик отправил самого проворного из своих внуков на лихой тройке за покупками, и к вечеру как тут все явилось. Пошли с докладом к Вот-он Ивановичу, он и приплелся в дом к Панкрату, весь в черном. Сперва начал отведывать вино, велел согреть воды, отколол большей кусок сахару, положил в кипяток и долил ромом, и это все он отведывал, чтоб узнать, годятся ли снадобья для нашептыванья. Вот как выпил он бутылку виноградного да осушил целую чашку раствору из рому с сахаром – и разобрала его колдовская сила. Как начал он петь, как начал кричать на каком-то неведомом языке – ну, хоть святых вон неси! Велел подать четыре сковороды с горячими угольями, всыпал в каждую по щепотке мелкого сахару и расставил по всем четырем углам; после того шептал что-то над бутылками и штофом, взял глоток рому в рот, пустился бегать по избе да прыскать на стены, ломаться да коверкаться, кричать изо всей силы, инда у всех волосы дыбом стали. Так он принимался до трех раз, после сказал, что все нашептанные снадобья должно вынесть из дому в новой скатерти и никогда ничего этого не вносить снова в дом, что с ними-де вынесется из дому Кикимора; велел подать скатерть, положил в ее бутылки, штоф и сахар, поздравил хозяев с избавлением от Кикиморы и понес скатерть с собою, шатаясь с боку на бок, надобно думать, от усталости.
– Что же, Кикимора больше не оставалась в доме Панкратовом?
– Вот то-то и беда, сударь, что вышло наоборот. Видно, что колдовство нашего фон-барона было не в добрый час, или он кудесник только курам на смех, или просто хотел надуть добрых людей и полакомиться на чужой счет; только вышло, как я вам сказал, наоборот. Доселе Кикимора делала только добро: холила ребенка и пряла на хозяйку, никто ее за тем ни видал, ни слыхал, а с этих пор, видно, ее раздразнили шептаньем да колдовством, она стала по ночам делать всякие проказы. То вдруг загремит и затрещит на потолке, словно вся изба рушится; то впотьмах подкатится клубом кому-либо из семьян под ноги и собьет его, как овсяный сноп; то, когда все уснут, ходит по избе, урчит, ревет и сопит, как медвежонок; то середь ночи запрыгает по полу синими огоньками…
Словом, что ночь, то новые проказы, то новый испуг для семьи. Одну только маленькую Варю она и не трогала, и ту перестала обмывать и чесать, а часто на рассвете находили, что ребенок спал головою вниз, а ногами на подушках.
Так билась бедная семья круглый год. В один день пришла к ним в дом старушка нищая, вся в лохмотьях, и лицо у нее сжалось и сморщилось, словно сушеная груша или прошлогоднее яблоко от морозу. Тетка Емельяновна, как вы уже слышали, сударь, была старуха добрая и любила наделять нищую братию. Посадила она божью странницу за стол, накормила, напоила, дала ей денег алтын пять и наделила ее платьишком. Вот нищая и начала молить бога за всю семью, а после молвила: «Вижу, православные христиане, что господь бог наградил вас своею милостью: дом у вас как полная чаша, только не все у вас в дому здорово». – «Ох! так-то нездорово, что и не приведи бог! – отвечала тетка Марфа. – Посадили к нам, знать, недобрые люди из зависти, окаянную Кикимору, она у нас по ночам все вверх дном и ворочает». – «Этому горю можно помочь, у вас не без старателей. Молитесь только богу да сделайте то, что я вам скажу, все как рукою снимет». – «Матушка ты наша родная! – взмолилась ей Емельяновна. – Чем хочешь поступимся, лишь бы эту нечисть выжить из дому». – «Слушайте ж, добрые люди! Сегодня у нас воскресенье. В среду на этой неделе, ровно в полдень, запрягите вы дровни… Да, дровни, не дивитесь тому, что нынче лето, этому так быть надобно… Запрягите вы дровни четом, да не парой…» – «Как же этому можно быть, бабушка? – спросил середний внук Панкратов, молодой парень лет семнадцати и, к слову сказать, большой зубоскал. – Ведь что чет, что пара – все равно!» – «Велик, парень, вырос, да ума не вынес, – отвечала ему старуха нищая, – не дашь домолвить, а слова властно с дуба рвешь. Вот как люди запрягают четом, да не парой: в корень впрягут лошадь, а на пристяжку корову, или наоборот: корову в корень, а лошадь на пристяжку. Сделайте же так, как я вам говорю, и подвезите дровни вплоть к сеням: расстелите на дровнях шубу шерстью вверх. Возьмите старую метлу, метите ею в избе, в светлице, в сенях, на потолке под крышей и приговаривайте до трех раз: “Честен дом, святые углы! отметайтеся вы от летающего, от плавающего, от ходящего, от ползущего, от всякого врага, во дни и в ночи, во всякий час, во всякое время, на бесконечные лета, отныне и до века. Вон, окаянный!” Да трижды перебросьте горсть земли чрез плечо из сеней к дровням, да трижды сплюньте; после того свезите дровни этою ж самою упряжью в лес и оставьте там и дровни, и шубу; увидите, что с этой поры вашего врага и в помине больше не будет». – Старики поблагодарили нищую, наделили ее вдесятеро больше прежнего и отпустили с богом.
В эти трое суток, от воскресенья до середы, Кикимора, видно, почуяв, что ей не ужиться дольше в том доме, шалила и проказила пуще прежнего. То посуду столкнет с полок, то навалится на кого в ночи и давит, то лапти все соберет в кучу и приплетет их одни к другим бечевками так плотно, что их сам бес не распутает; то хлебное зерно перетаскает из сушила на ледник, а лед из ледника на сушило. В последний день и того хуже: целое утро даже не было никому покою. Весь домашний скарб был переворочен вверх дном, и во всем доме не осталось ни кринки, ни кувшина неразбитого. Страшнее же всего было вот что: вдруг увидели, что маленькая Варя, которая играла на дворе, остановилась середи двора, размахнув ручонками, смотрела долго на кровлю, как будто бы там кто манил ее, и, не спуская глаз с кровли, бросилась к стене, начала карабкаться на нее, как котенок, взобралась на самый гребень кровли и стала, сложа ручонки, словно к смерти приговоренная. У всей семьи опустились руки; все, не смигивая, смотрели на малютку, когда она, подняв глаза к небу, стояла как вкопанная на самой верхушке, бледна как полотно, и духу не переводила. Судите же, батюшка барин, каково было ее родным видеть, что малютка Варя вдруг стремглав полетела с крыши, как будто бы кто из пушки ею выстрелил! Все бросились к малютке: в ней не было ни дыхания, ни жизни, тело было холодно как лед и закостенело; ни кровинки в лице и по всем составам, а никакого пятна или ушиба заметно не было. Старуха бабушка с воем понесла ее в избу и положила под святыми; отец и мать так и бились над нею, а старик Панкрат, погоревав малую толику, тотчас хватился за ум, чтоб им доле не терпеть от дьявольского наваждения. Велел внукам поскорее запрягать дровни, как им заказывала нищая, и подвезти к сеням, а сам приготовил все, как было велено, и ждал назначенного часа. На старика и внуков его, бывших тогда на дворе, сыпались черепья, иверни кирпичей и мелкие каменья, а женщин в избе беспрестанно пугал то рев, то гул, то вой, то страшное урчанье и мяуканье, словно со всего света кошки сбежались под одну крышу. То потолок начинал дрожать: так и перебирало всеми половицами и сквозь них на голову сеяло песком и золою. Все бабы, лепясь одна к другой, сжались около тела маленькой Вари и дух притаили. Так прошло не ведаю сколько часов. Вот на барском дворе зазвонили в колокол. Это бывало всегда ровно в полдень, когда садовых работников сзывали к обеду. Пантелеич опрометью кинулся в избу, схватил метлу – и давай выметать да твердить заговор, которому нищая его научила. Проказы унялись, только мяуканье, и фырканье, и детский плач, и бабий вой раздавались по всем углам. Скоро и этого не стало слышно: обе избы, светлицы, потолки и сени были выметены; старик трижды бросил через плечо землю горстями, трижды плюнул и велел двоим внукам взять лошадь и корову под уздцы да вести их с дровнями со двора, вон из деревни, через выгон и к лесу. На дворе и по улице столпились крестьяне целой деревни, все, от мала до велика, и провожали Кикимору до самого леса…