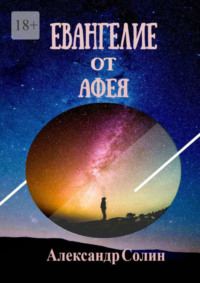Полная версия
Оригинал и его Эго

Оригинал и его Эго
Александр Солин
© Александр Солин, 2024
ISBN 978-5-0064-5720-1
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Оригинал и его Эго
Посвящаю моей дочери
Плохо писать о том, что действительно
с вами случилось. Чтобы вышло толково,
надо писать о том, что вы сами придумали,
сами создали. И получится правда.
Э. Хемингуэй
Глава 1
Еще одно, последнее сужденье, и рукопись закончена моя. Да, согласен: отсылка лишена тонкогубой взыскательности. Это вам не Сократ с его «Федоном» и не «индивидуальные достижения великих английских поэтов», которых принужденный жить в их вотчине поневоле станет возвеличивать. Кстати, знаете, чем рукопись отличается от летописи? Тем, что рукопись – от лукавого издателя, а летопись – от бога. Она не подцензурна. Так что у меня, пожалуй, летопись. Пишу, что думаю, а не чтобы нравиться. В закрытый рот муха не залетит – это не про меня. Всю жизнь не терплю грязную посуду. Для меня именно она, а не грязное белье – признак нечистоплотности. Пантеон моей памяти полон курьезных и не всегда удобных фактов, и вместе они складываются в нелицеприятную картину. Бальзак пожалел человечество, назвав его существование комедией. Правильнее было назвать бедламом…
Филимон Фролов (для своих просто Филя – о, нет, не простофиля, далеко не простофиля!), которому эти дерзкие мысли принадлежали, оторвался от компьютера и отправился на кухню. Засыпал зерна в допотопную ручную кофемолку и рассеянно глядя в окно, принялся машинально вращать стертую до тусклого блеска ручку, краем уха прислушиваясь к редеющему похрустыванию. Подумал: вот также и нас, словно зерна засыпают в жернова жизни, а потом слушают, как мы протестующе хрустим – до тех пор, пока не онемеем. Сварив в турке кофе, Филя кинул туда щепоть корицы, вернулся с чашкой в комнату, присел за компьютер и продолжил:
Взять хотя бы ту же власть. Со времен пушкинского Пимена никакие мутации не пошли ей на пользу. Она по-прежнему такая же вздорная и самодовольная. Лучше всех боярам. Они поняли, что находиться в одной повозке с власть предержащим гораздо выгоднее, чем управлять ею. Пока возница остервенело дергает вожжи и набивает шишки, они за его спиной набивают карманы. Лукавые царедворцы, они боятся лишь тех, кто «злословием притворным» «узнать твой тайный образ мыслей» норовит, чтобы затем оговорить. История страны – это история череды, прости господи, «элит», которые меняют лишь названия, но не суть. Неизменна и структура власти: она по-прежнему подобна дереву, растущему корнями вверх.
Что заставляет людей вожделеть власть? Причины разные. Есть пронырливые ничтожества, для которых как нельзя кстати пословица: чем выше взбирается обезьянка на дерево, тем лучше видна ее голая задница. Это просто воры. Есть те, кто ослеплен внешней мишурой властного положения. Это бездельники. Есть те, которые становятся заложниками компромисса. Это канатоходцы, чья судьба зависит от умения держать равновесие. Есть одурманенные иллюзией могущества. Это генераторы хаоса. Есть те, кто пользуется властью, как рычагом в надежде перевернуть мир по своему усмотрению. Это слуги апокалипсиса. Есть те, которые возникают своевременно и ниоткуда и становятся последней надеждой нации. Это, разумеется, спасители. Правда, их апостолы не всегда праведны. И есть, наконец, те, что достигнув высшей власти, сохраняют трезвомыслие и не заблуждаются на свой счет. Это узники совести. При этом, согласитесь, есть разница между теми, кто рвется к власти и теми, кто рвется во власть. Первые одурманены ею, как хищники кровью, для вторых она как кошелек в чужом кармане. Как бы то ни было, одно точно: у каждого достигшего маломальской власти есть свои «кровавые мальчики». Это также верно, как и то, что за каждым бюллетенем «за» слышится все тот же народный стон:
Ах, смилуйся, отец наш! Властвуй нами!
Будь наш отец, наш царь!
Филя оторвал взгляд от экрана, подумал и приписал:
Впрочем, добропорядочным гражданам волноваться не следует: для России это в порядке вещей. Как говорится, что русскому здорово, то немцу (в широком этимологическом смысле) смерть. Что до великих правителей, то истинны только их записные мысли. Все остальное – фантазии на их счет.
Фролов подхватил чашку с кофе и откинулся на спинку стула. К этому времени на его счету числились три романа и с десятка три рассказов – достаточное основание вообразить себя писателем. Правда, пока еще непубликуемым, а стало быть, непризнанным. Но нет худа без добра: он мог позволить себе роскошь быть независимым, и судьей ему была лишь его писательская совесть. С нею он в компании таких же непризнанных квартировал на некоем квазилитературном сайте, называя его в минуты раздражения пристанищем графоманов. Мы живем в эпоху, когда к феноменам бытия вроде универсальных аксиом «деньги не пахнут» и «деньги выше закона» добавилось новообразование двойного толка (то ли средство от одиночества, то ли вакханалия этого самого одиночества), имя которому Интернет и призрачный мир которого реальней действительности. Почему бы не воспользоваться.
В неподкрепленных фактами обобщениях есть что-то легковесное и неубедительное. Вроде теоремы без доказательства, претендующей на звание аксиомы. Фролов мысленно окинул топографию замысла своего очередного опуса, подыскивая там место своим отвлеченным размышлениям. Место нашлось и, нанизав их единым коконом на сюжетную ось, он продолжил разматывать нить повествования.
«Витиеватый жизненный путь моего героя привел его в самом конце восьмидесятых на одно основательное ленинградское предприятие, которое к тому времени начинало торговать с заграницей. Дело было новое, и за отсутствием опыта требовало внимания компетентных служб. На этой почве он и познакомился с Артемьевым, чье звание, а тем более принадлежность знать было не положено. Со временем между ними сложились доверительные человеческие отношения, и когда в начале девяностых страна пустилась во все тяжкие, и мой герой, покинув завод, отправился в свободное плаванье, их отношения укрепились до партнерских. Совместными усилиями им удалось заработать кое-какие средства, и мой герой, учитывая некоммерческий статус партнера, стал казначеем его зарубежных счетов. И вот однажды, году в девяносто пятом Артемьев в свойственном ему ироническом духе объявил:
– Евгений Николаевич, я продал вас в рабство.
Он выкал до самой смерти – не то из показного уважения, не то храня дистанцию. Было лето, было жарко, и они сидели в машине с опущенными стеклами на углу Перинной и Невского. Выяснилось, что Артемьев замолвил за своего партнера словечко в Комитете по внешнеэкономическим связям, и завтра у него в пятнадцать ноль-ноль собеседование на Исаакиевской площади.
– Там командует наш человек. Толковый парень, великолепно владеет немецким, – сообщил Артемьев. Сам он, к слову сказать, в немецком знал толк.
В этот момент от цветастой стайки цыганок, что крутились неподалеку, отделилась одна из них и, подойдя к машине, заглянула в салон:
– Давай, золотой, погадаю! – напала она на моего героя, безошибочно угадав в нем своего клиента.
Евгений смутился: цыганок он побаивался. Нагадают, черт знает что, и потом живи с этим.
– Не надо, не хочу, – промямлил он, стараясь не глядеть на женщину.
– Давай так, мой золотой. Вот тебе сто рублей, – протянула она ему банкноту, – а ты положи на них пятьдесят одной монетой, заверни и верни мне.
– Нет, нет, ничего не надо! – отбивался Евгений, все более теряясь.
Видя беспомощность своего протеже, Артемьев отвел лацкан пиджака, подставил глазам цыганки подмышку с кобурой и коротко бросил:
– Уйди!
Цыганку будто ветром сдуло. Кажется, если бы на ней была фуражка, она бы перед этим козырнула. Не иначе из их ведомства, усмехнулся про себя Евгений. И еще вспомнил, как вначале их денежных отношений Артемьев мило улыбнулся и сказал:
– Если обманите, Евгений Николаевич, пристрелю.
На следующий день он прошел собеседование и принялся ждать. Тут самое время вспомнить об одном досадном обстоятельстве, которое до сих пор если и доставляло неприятности, то лишь одному Артемьеву: увы, он не был трезвенником и время от времени впадал в запой. Видно, по этой причине его, сравнительно еще молодого, и перевели в резерв. Запил он, как на грех, и в этот раз, и когда недели через две вышел на связь, Евгений по его виноватому тону понял, что поезд ушел без него. Впоследствии мой герой, следя за головокружительной карьерой своего несостоявшегося внешнеэкономического начальника, не раз представлял, что было бы, окажись он у него на службе. А было бы вот что: локтями он толкаться не умел, но везде, где до этого работал, быстро приобретал репутацию инициативного, толкового специалиста. Проявил бы себя и здесь. Проявив, попал бы на заметку главному, а там, глядишь, и поехал за ним вместе с прочими в Москву – чем черт не шутит! А дальше эта самая власть, за которую одни цепляются, как за спасательный круг, а другие бегут от нее, как от чумы. Нет, он, конечно бы, привык: с волками жить – по-волчьи выть, но как быть с совестью, которая в один прекрасный день не выдержала бы и подала в отставку!
Неугомонная судьба (не иначе сочиненная в ведомстве самого бога соблазна) подкинула ему, однако, второй шанс.
На пороге нового века он познакомился с начинающим, не особо опытным в бизнесе, но полным дерзких планов отставным военным. Артемьев к тому времени скончался от острого панкреатита, и новое партнерство было для Евгения как нельзя кстати. Он задействовал свои заграничные, преимущественно консалтинговые и юридические контакты, и некоторое время пытался приспособить их к изменчивым и не всегда внятным планам партнера. Их тягучее, непродуктивное сотрудничество продолжалось года два, а потом ориентиры партнера поменялись, и им пришлось расстаться. Каково же было изумление моего Евгения, когда он через десять лет узнал, что его бывший партнер назначен заместителем министра не какой-то там губернии, а всей страны! Новость эта лишь укрепила его в убеждении, что российская власть, как и всё византийское превосходит его разумение. Мало того что она сама слепа, так еще и требует слепого подчинения! И ладно бы еще кому-то приличному, но ведь проходимцев там во сто крат больше! И все же, что заставляет человека рваться к власти и во власть? По сути, то же, что и актера выходить на сцену. Нет, не отрава призвания, а инстинкт превосходства. У Евгения этого инстинкта не было, а потому описанные эпизоды жизни остались в его памяти досадным недоразумением…»
Фролов перечитал то, что вышло из-под его набивших руку пальцев и, подумав, добавил:
«Не собственность портит человека, а власть. Где власть, там воровство. Собственность только тогда кража, когда она достается через власть»
Глава 2
– Не стану говорить о плачевном состоянии нашей некогда великой литературы, хотя вам, молодым, это может показаться странным. Скажу так: я знавал и другие, лучшие времена, где звание инженера человеческих душ присваивалось, а не покупалось. Нынешнюю русскую литературу можно поставить в один ряд с последствиями крушения римской империи, когда вместе с ней потеряли силу ее боги. Их попросту отправили в архив, то бишь, мифологизировали. Так же поступили с нашим прежним Олимпом во главе с громовержцем Пушкиным. Да, старый Олимп по-прежнему существует, но как преданье старины глубокой. Его обитателей уже не боятся и их именем не клянутся. Но свято место, как известно, пусто не бывает, и теперь у нас другие боги. Вернее сказать, убожества. Богатое наследие прежних мастеров они разменяли на фальшивые полушки, рядом с которыми и пятак – богатство. Пора признаться и признать, что литература, которую мы здесь имеем в виду, есть привилегия и прибежище меньшинства, причем, исчезающе малого меньшинства, принадлежать к которому большая честь, и вы часть этой чести. Чтобы быть достойными этой чести, придется постараться. Для этого необходимо навести порядок в современной русской литературе и перевести ее из лихорадочного, больного состояния в состояние покоя, ибо как говорил Марк Аврелий «покой не что иное, как порядок внутри». Сегодня пишущему человеку чтобы оказаться на виду, нужны деньги, связи и прочие нетворческие ресурсы. Критики проплачены, рецензенты куплены. Можно написать гениальный текст и разместить его в Интернете, но он так и не дойдет до читателя, потому что рядом с ним, как на бесконечной доске объявлений висят сотни тысяч других текстов, далеко не гениальных и попросту убогих, и найти среди них стоящий текст – все равно, что отыскать иголку в стоге сена. Можно, конечно, победить в каком-нибудь престижном конкурсе, но это из области фантастики. В порядке вещей жестокая борьба за место под литературным солнцем, где все средства хороши. А потому впереди у вас противостояние с потакающими дурным вкусам издательствами с их обоймой набивших оскомину авторов. И самое главное: вы должны возродить художественный отбор, ибо без него литература превратится в стоячее болото…
Так вещал перед аудиторией Филимон Фролоф. Да, да, тот самый Филимон Фролоф, автор «Полифонии» и еще двух десятков завиральных, псевдорассудочных романов, чья атмосферная, как любят нынче выражаться всеядные дилетанты, бессюжетность пришлась по вкусу молодой филологической общественности. Его хотели слушать, его приглашали, и он не отказывался. Вот и сейчас он выступал в питерском педагогическом университете перед будущими филологами. Молодые лица, любопытствующие глаза, немало скептических.
– Мольер говорил: «Писательство похоже на проституцию. Сначала ты делаешь это по любви, затем для нескольких близких друзей, а затем за деньги». И с этим трудно не согласиться. К сожалению, сегодня большинство начинающих писателей мечтает миновать любовь и дружбу и сразу заняться проституцией. Давайте все вместе скажем им так: не узнав любви, вы и в проституции не преуспеете. Не мечтайте о завтрашнем дне, живите сегодняшним, где вы можете еще познать завораживающее состояние вдохновения, которое подобно привидениям приходит ночью и уходит на заре. Заодно станете свидетелем чуда, когда рукописное слово, освободившись от звука, обретает плоть и кровь. Именно это время вы будете с грустью вспоминать, когда литературная проституция сделается вашей профессией, и ваше мнение должно будет либо совпадать с официальным, либо ни на что не влиять, а значит, ничего не стоить. Вы уже не сможете сказать: я принял ваши правила, теперь примите мои – это будет не по правилам. Всему свое время, друзья, всему свое время. Всегда помните, что сказал Экклезиаст: «Я понял задачу, которую дал бог решать сынам человека: всё он сделал прекрасным в свой срок». Иными словами, вещи вокруг вас должны занять свои места, а вы – свое место среди вещей. Так что не спешите расставаться с невинностью…
– А если изнасилуют? – раздался голос с места.
– Тогда рожайте, милая девушка, и считайте, что вам повезло! – не растерялся Филимон Фролоф.
После краткого взрыва смеха, он обратился к аудитории:
– На этом вводная часть закончена. Готов ответить на ваши вопросы.
– Вот вы сказали – полушки, обойма. А сами вы кем себя считаете? – прозвучал первый вопрос.
Фролоф:
– Важно не кем я себя считаю, а кем считаете меня вы. Но я отвечу. Я – протестант. Я по мере сил протестую против нынешнего состояния литературы, к чему и вас призываю.
– А откуда у вас такая фамилия? Или это псевдоним?
– Псевдоним. Если вы читали у меня что-нибудь, то заметили, что в текстах я склонен к странностям. Моя настоящая фамилия – Фролов, и своим псевдонимом я как бы говорю триединое фи всему, с чем не согласен.
– Филимон Григорьевич, а сколько вам лет?
– Вы можете это узнать в Википедии, но я скажу: полных пятьдесят три года.
– Как и когда вы начали писать?
– Склонность к сочинительству я обнаружил у себя еще в школе. Мне нравилось писать сочинения на вольную тему. После школы поступил в технический ВУЗ, где начал тайком писать рассказы, а когда стал работать на заводе, отослал несколько рассказов в «Юность». Времена были суматошные, и по какой-то метафизической причине рассказы приняли. Так пришло признание. Это уже потом под влиянием абсурда российской действительности девяностых у меня сформировался тот стиль, в котором я пишу до сих пор.
– Как вы относитесь к аудиокнигам?
– Лично я их не одобряю. Они превращают читателя в слушателя, а это другой уровень восприятия. Это как если бы вам вместо музыки называли последовательность нот, предлагая превратить их в звуки. Слух дан нам для музыки, глаза – для чтения. По мне нет лучшего наслаждения, чем неторопливое вдумчивое чтение. Впрочем, каждому – свое…
– А к блогерам как относитесь?
– Как к издержкам технического прогресса. А точнее, как к назойливым мухам. Многие полагают, что заведя блог, сразу станут умным. Поэтому среди этой породы людей полно самодовольных невежд. Тем не менее, это не мешает им рассуждать обо все на свете, становясь кое для кого буквально светом в окошке. Послушайте, но если звезды зажигаются, значит это кому-то нужно! Кому? Я тут где-то прочитал про некий ролик, в котором котенок гоняется за мухой. Так вот он набрал восемьсот тысяч просмотров! Это же как надо не ценить время! Вот это и есть потребители блогерского продукта. С другой стороны, человеческая жизнь – это общение. Его не отменить никакими законами и никакими техническими средствами. Одни теряют время с блогерами, другие – с мудростью веков. Повторюсь: каждому – свое…
– Что вы читаете?
– Слежу за содержанием толстых журналов. Держу, таким образом, руку на пульсе современной литературы. И знаете, пульс этот на удивление вялый. Я бы даже сказал уныло вялый. Время нынче непростое, а у авторов одна бытовуха на уме. Также читаю лауреатов всяческих премий, в число коих не всегда попадаю, и пытаюсь понять, за что их награждают. Я тут специально выписал для примера. Где оно тут у меня… – порылся Фролоф в портфеле. – А, вот, нашел! Послушайте:
«В течение многих лет Чагин являлся на службу в одно и то же время и, как мне казалось, в одном и том же виде. Надо думать, одежду Чагин менял, но каждая смена повторяла предыдущую. В любое время года он ходил в темно-сером костюме и такой же рубашке. Серым был и его галстук, который не сразу опознавался, потому что сливался с рубахой. Осенью и весной Чагин носил болоньевый плащ цвета мокрого асфальта, а зимой – темно-серое пальто с цигейковым воротником. Когда вышел роман „Пятьдесят оттенков серого“, я подумал, что так могла бы называться и книга об Исидоре»
По правде говоря, не понимаю, кто и за что наградил эту унылую, серую прозу. Но дело не только в ней. Из нашей литературы исчезла легкость, в ней не осталось виртуозности, напрочь пропал стиль. Все и обо всем пишут одинаково. И это притом, что особенностью и главным достоинством русского языка является его гибкость, вариативность. Бедные французы могут нам только позавидовать. У них мало того что все слова имеют ударение на последнем слоге, так еще и порядок членов предложения ранжирован: сначала подлежащее, затем сказуемое, и после – дополнение. И будь ты хоть академик, хоть лауреат Гонкуровской премии – изволь писать именно так. Их президент Клемансо говорил по этому поводу приблизительно так: «Французский язык прост – сначала подлежащее, за ним сказуемое, а следом дополнение. Кто хочет писать лучше – приходите ко мне». Это что касается стиля. С содержательностью еще хуже: в центре повествования – бесконечные житейские истории разной степени надуманности и с одинаковой моралью: жизнь – штука непростая. О том, как перевирают историю и говорить не приходится. Всегда вспоминаю при этом «Окаянные дни», где Бунин написал: «Раскрылась несказанно страшная правда о человеке. Все будет забыто и даже прославлено! И прежде всего литература поможет, которая что угодно исказит…» Что верно, то верно. Художественная правда – это не жизненная правда. Она открыта для толкования. При этом каждый толкует ее с позиций собственного мировоззрения. Ведь в чем отличие художественного метода от, например, научного? В том, что язык науки максимально однозначный, а художественный язык всегда многозначный. Ученый говорит: стрела времени направлена в одну сторону. Поэт о том же самом: «Тропинка старая уходит в прошлое, но нам с тобой туда дороги нет». Или вот Лев наш Николаевич Толстой: «Время, в отличие от денег невосполнимая энергия: его нельзя ни накопить, ни взять в долг, ни одолжить другому». Ну, и так далее…
– Филимон Григорьевич, как вы считаете, почему сегодня нет писателей уровня Достоевского, Чехова, Булгакова, Шолохова или того же Платонова? Ведь наше время не менее конфликтно, чем их!
– Местами даже поболе, скажу я вам! Скажу больше: нынешние сочинители не дотягивают даже до уровня русских писателей второго эшелона! Кого-то испортил постмодернизм, кого-то показное бунтарство, кого-то самолюбие, кого-то тщеславие, кому-то элементарно не хватает таланта. Я бы здесь обратился к моему любимому Марку Аврелию, чьи размышления о жизни не стареют вот уже двадцать веков. Он написал: «Что улью не полезно, то пчеле не на пользу». Вот и судите сами, кто виноват в том, что пчелы малопродуктивны. С ульев надо начинать, то бишь, с пчеловодов! Вот говорят: тошно поэту во времена, когда он не нужен обществу. То же самое можно сказать о прозаиках. Добавьте к этому, что писателям, как и всем творцам, свойственно выгорать, и сегодня их выгорание происходит катастрофическими темпами, особенно там, где и выгорать-то нечему. Две-три книги, и нет писателя…
– А как вы думаете, писателю необходимо филологическое образование?
– А для чего?
– Ну, чтобы правильно писать…
– Важно писать не правильно, а интересно. Возьмите того же Горького – у него не было даже начального образования, он всему выучился сам, да так что Литературный институт в Москве носит его имя. Только что-то новых Горьких мы не видим. Нет, удел писателя – постоянное самообразование. Ну, хорошо, будем считать, что знакомство состоялось. Теперь по существу: поднимите руки, кто что-нибудь у меня читал.
Подняли руки более половины присутствующих.
– Неплохо, рад! – похвалил Фролоф. – А теперь кому и что понравилось либо не понравилось. Да, пожалуйста! – пригласил он взлетевшую руку.
– Мне понравилась «Вторая жизнь». Понравился прием двойного сна, на который можно списать все сюжетные и фактические несуразности. Там потрясающий финал. Знаете, когда напряжение нарастает и, кажется, вот-вот рядом что-то взорвется! И действительно: молния, гром и… пронзительная тишина… И благодать, как после грозы… Должна сказать, что финалы у вас получаются.
– Спасибо, милая девушка! В самом деле, немного фантасмагории текстам не помешает. Вымысел есть вымысел. Главное, чтобы он способствовал движению. Не знаю, как в политике, а в литературе принцип меньшевика Бернштейна «движение – всё, конечная цель – ничто», по моему мнению, весьма уместен. Терпеть не могу кондовую сюжетность, когда начав читать, уже знаешь, чем дело кончится. Правильные злодеи, правильные герои, правильные поступки, всё правильное. Вообще говоря, если понимать под художественной литературой описание деятельности человеческого духа, сюжет не обязателен. Да, есть причинно-следственная связь, а значит, предполагается развитие, но и перемешав эпизоды, можно добиться эстетического эффекта, который один только и является настоящей целью художественного текста. Эра назидания в художественной литературе – а прочие письменные опусы я литературой не считаю – закончилась. Жизнь героев продолжается за рамками текста, и каждый читатель сам для себя делает выводы из того, что прочитал. Лично я считаю, что настоящая книга это та, которой наслаждаешься как запахом розы, не вникая при этом в строение самой розы. Вот потому я люблю Набокова и не люблю постмодернистов, хотя есть чудаки, которые находят признаки постмодернизма у позднего Набокова.
И, выставив ладонь в сторону взметнувшихся рук, Фролоф добавил:
– Хотел бы особо подчеркнуть, что все, что я вам говорю, спорно и может расходиться с наставлениями ваших преподавателей. Вам решать, как к ним относиться. Да, пожалуйста! – поднял он взъерошенного очкастого парня.
– Насчет эры назидания. Мы ведь будущие педагоги, а педагогический процесс держится на назиданиях. И как тут быть?
– В таких случаях я всегда говорю: нужно нашим Маням, Ваням знать историю свою. Это главное. Но вы правы: назидания – для неокрепших умов. Как только ум окреп, его не свернешь никакими назиданиями. Есть педагогический процесс и есть самообразование, частью которого является чтение. Школа – это святое. Это дверь в большую жизнь, а искусство жить, по словам Марка Аврелия, похоже скорее на искусство борьбы, чем танца. Это справедливо даже для танцевальных училищ. Важно, чтобы семья, школа и книги учили одному и тому же. Тогда и возникает гармония. Разве не так?