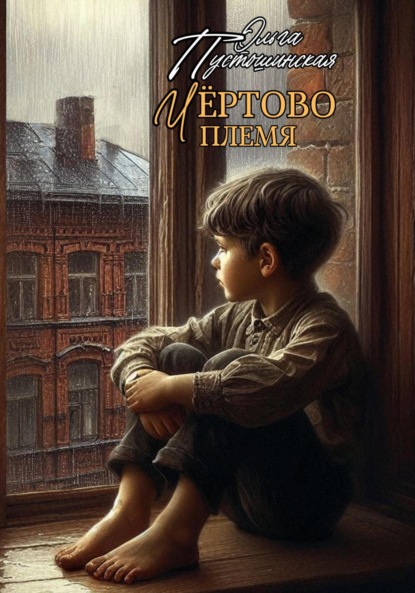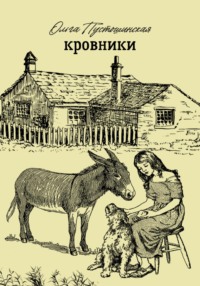Полная версия
Чёртово племя. Часть вторая
– В каком приюте?
– Здесь, в городе. Дядька Семён меня привёз, как мамка померла. А потом меня батюшка усыновил.
Миловский не стал выспрашивать подробности, лишь тяжело вздохнул:
– Мишенька, голубчик, ты бы тоже рвался домой, если бы у тебя была жива родная матушка.
Он лёг в постель, завернулся в байковое одеяло и проговорил невнятно:
– Дома-то как хорошо… У нас в Фергане улицы широкие, с тротуарами и электрическими фонарями. По базару идёшь – фруктов валом, в тандырах лепёшки пекут, вкусные, горячие.
– Невидаль какая – лепёшки! – фыркнул Минька. – Прасковья сколько угодно таких напечёт.
– И речка есть, Шахимардан.
– А здесь целых две – Урал и Сакмара.
– А какой у нас са-ад! – не обращая внимания на Минькины слова, мечтательно проговорил Севка. – Урюк, фисташки, виноград… благодать божья! А здесь степи да степи, пыль одна.
Минька засопел, отвернулся, обиженный за свою родную степь и за город. Как будто кроме пыли ничего в нём нет! А реки, а скалы, а сады вишнёвые и яблоневые? Оно понятно, что Миловскому дома и грязь дорога, но зачем же чужое хаять?
Ночью Севка не спал, ворочался – Воробей слышал рядом возню, шорохи и всхлипы, а после оказалось, что Миловский пропал. В утренней суматохе Минька не обратил внимания, что Севы нет в умывальне, только на построении заметил. При обходе комнат все убедились, что Миловский исчез: его кровать была в беспорядке, одеяло сбито, ночная рубашка скомкана. Кое-какие личные вещи пропали из шкафчика, а ещё образок в изголовье кровати – матушкино благословение.
– Сбежал, не уследили! – процедил ротный командир, меняясь в лице. – Кто на дверях ночью стоял?
Дядьки уверяли, что ни на минуту не оставляли пост, они, мол, знают, что за кадетами первые две недели глаз да глаз нужен.
Севку разыскали и вернули в корпус на другой день. Он ходил по вокзалу и спрашивал у железнодорожников, как добраться до Ферганы.
Добряк Любарский увёл Миловского в кабинет и долго не отпускал. На урок словесности Сева пришёл с красными глазами, но повеселевший, плюхнулся за парту рядом с Минькой.
– Влетело? – шёпотом спросил тот.
– Нет. Леонид Николаевич сказал, что если через месяц мне здесь не понравится, то он напишет отцу, чтобы забрал меня домой.
– Так прямо отпустит? – поразился Воробей.
– Обещал.
Несколько дней Сева только и говорил что о доме: какая добрая у него матушка, какие проделки они устраивали с братом и сестрой, какой у них прекрасный дом и сад. Но мало-помалу он втянулся в кадетскую жизнь, увлёкся фотографией, подержал в руках рапиру и про отъезд вспоминать перестал.
Ребята привыкли к корпусу, шалили и дрались, устраивали кучу малу – общую свалку. Шум и визг тогда стояли знатные.
***К первому ноября кадеты готовили праздничное представление: спектакль о Минине и Пожарском, песни, стихи, танцы и прочую самодеятельность. Роль Дмитрия Пожарского вызвался играть полковник Франц, старички говорили, что он превосходный чтец и актёр. Минька и другие ребята играли ополченцев.
Севка взялся выучить песню «Вдоль да по речке, вдоль да по Казанке», а Воробей решил удивить всех фокусами. Не карточными – вырос он из этого, – такими, чтобы ребята замерли от восторга, а после бегали за ним и умоляли раскрыть секрет. Но Минька – ни-ни! Нипочём не расскажет.
Несколько дней он обдумывал фокусы, собирал реквизит, репетировал, закрывшись в пустом классе, даже Севку не пускал посмотреть. Тот, страшно заинтригованный, канючил:
– Отчего ты не хочешь показать фокус? Мишенька, дружочек, покажи-и… Я-то тебе позволяю слушать, как я репетирую.
– Нельзя, секрет, – важничал Минька и прятал за спину мячи для лапты.
Миловский обижался:
– Ну знаешь, это свинство и подлость с твоей стороны. Я тебе этого не забуду, подлецу.
Воробей смеялся и отвечал, подражая другим кадетам:
– Миловский, голубчик, сейчас увидишь – потом неинтересно будет.
– Интересно! Честное благородное слово! – Севка клялся, что он с удовольствием посмотрит и в сотый раз, но Минька не поддался уговорам.
Праздник удался на славу. Декорации, нарисованные кадетами, были не хуже настоящих театральных, как уверял Севка. Актёры играли замечательно. Когда Франц-Пожарский говорил, сдвинув брови: «Кому спасать Русь-матушку, коли не нам?» – ребята-ополченцы потрясали бутафорскими бердышами и кричали «ура», не помня себя от храбрости.
После спектакля кадетский хор спел песню «Там, где волны Аракса шумят». Минька стоял за кулисами, держа в руках старую шляпу учителя французского, и в волнении проверял реквизит.
– Вознесенский, давай, твой выход! – подтолкнул в спину старшеклассник, и Воробей очутился на сцене.
Заиграл вальс «На сопках Маньчжурии». Минька положил на столик шляпу, сделал таинственные пассы – из неё вылетели мячи для лапты и поплыли по воздуху, точно их погнал ветер.
– Вот так да! Братцы, я знаю этот фокус, в Питере видел. Он леску тоненькую привязал! – воскликнул кадет из первого ряда.
Минька усмехнулся, щёлкнул пальцами и отправил мяч прямо в руки недоверчивому пареньку, чтобы тот убедился: никакой лески не было и нет. Хлопнул в ладоши – и мячи попадали в зал под восхищённые возгласы и аплодисменты.
Воробей раскланялся. Как жаль, что нет у него костюма-тройки с галстуком-бабочкой, как у Гарри Гудини, заграничного фокусника.
На сцену вынесли мольберт. Воробей несколько раз мазнул кистью по листу – и на бумаге остались синие полосы. Он отошёл на несколько шагов от мольберта, а кисточка – о чудо! – продолжала рисовать сама, делая широкие мазки уже пурпурной и розовой краской.
– Картина называется «Заход солнца над Адриатикой»! – объявил Минька, открепил лист и показал зрителям абстрактный рисунок, в котором действительно угадывалось и море, и закат с багряными облаками. Даже лучше получилось, чем у журнального осла, рисующего хвостом.
Успех был оглушительным. Воробей пожалел, что командиры запретили ему делать фокус с танцующими свечами. А получилось бы красиво: плывущие под музыку горящие свечи, послушные взмахам руки. Но Дударь сказал: «Нет, Вознесенский, придумывайте номер не такой пожароопасный».
Всё вышло так, как Минька и представлял. Кадеты ходили за ним по пятам и уговаривали научить фокусам.
– Вознесенский, миленький, объясни секрет… Мы дома будем фокусы показывать.
Воробей присвистнул:
– Ещё чего! Фокусники секретов не раскрывают. Это страшная тайна! И у вас не получится, здесь особый талант нужен.
– Жадоба! Ну ты хотя бы скажи: леску привязал?
– Да, да, леску. Сначала прицепил, а потом незаметно отцепил, – соврал Минька, – а кисточку на палку привязал. Стена чёрная и палка чёрная, поэтому вы её не увидели. А ещё я фокусы с картами знаю, японские… рассказать?
Пусть книжку с волшебными фокусами у него украли на вокзале, но голова-то всё помнит!
Рождественский вечер
Подумать только, как бежит времечко! Казалось, что совсем недавно на дворе стоял сентябрь и Минька маршировал на плацу со своей ротой. И вот обернуться не успел, а уже зима пришла. На том месте, где он вышибал городки, высилась ледяная крепость, возведённая сообща кадетами. Её назвали Измаил и отбивали у «турок» с большим азартом.
Сначала, как полагалось, вперёд выходил Суворов, выбранный из кадет-старшеклассников, и объявлял:
– Я с войсками прибыл сюда. Двадцать четыре часа на размышление – воля. Первый мой выстрел – уже неволя, штурм – смерть!
Турки – воспитанники из второй роты – кривлялись и ехидничали:
– Скорее небо упадёт на землю и Дунай потечёт вспять, чем Измаил сдастся! Убирайтесь отсюда!
Войско выжидало несколько минут, надеясь, что турки одумаются, затем Суворов давал команду на штурм. Сражались с таким ожесточением, будто отбивали крепость у противника по-настоящему, доходило дело до синяков и разбитых носов. Не бывает сражений без крови.
А как весело было катиться с ледяной горы на салазках! Дух захватывает, ветер свистит, снежинки в лицо бьют. В корпусе Минька впервые попробовал кататься на коньках-снегурках. В Ефремовке ребята мастерили деревянные коньки с жестяным ободком для лучшего скольжения, приматывали намертво к валенкам и отлично катались.
По воскресенья Дударь устраивал лыжные походы для тех, кто оставался в корпусе. Минька однажды отказался от увольнения, так ему захотелось опробовать лыжню.
Ребята уверяли, что лыжи надо смазать вазелином, тогда они сами будут лететь по снегу, и палок не надо. Воробей сбегал к фельдшеру, выпросил немного вазелина и тщательно натёр лыжи.
Сразу после молитвы и завтрака вышли из корпуса и спустились к замёрзшему Уралу. День выдался морозным, тихим и солнечным – в самый раз для лыжной прогулки. Впереди полковник Дударь поставил опытного Беликова, за ним тянулись остальные. Минька на лыжах бегал плохо, поэтому шёл в самом хвосте, за ним тащился Миловский.
Глядя на него, нельзя было удержаться от смеха: лыжи Севке только мешали. Командир запретил туго затягивать ремешки креплений, чтобы неумелые кадеты не вывихнули при падении ног. С Миловского слетали лыжи, он проваливался в снег по пояс, неуклюже пытался подняться.
Минька хохотал.
– Смейся, смейся… – пыхтел Севка, – у нас в Туркестане снега не бывает, где бы я научился? А ты отчего не умеешь кататься, как лыжебежец Бычков? У тебя снега каждую зиму вон сколько. – Он показал рукой в шерстяной перчатке на белую степь, раскинувшуюся на сотни вёрст.
– Хват! Подымайся, вон как отстали с тобой…
Через час с небольшим подошли к казачьему селу с глубоким оврагом на краю.
– Здесь отдохнём и обогреемся, – обрадовал Спартанец и вдруг оживился: – А вы знаете, ребята, что это село – бывшая столица Емельяна Пугачёва?
Он рассказал, что здесь стояла изба казака Ситникова, называемая государевым дворцом, с золотыми палатами, потому что стены комнаты, которую занимал Пугачёв, были обиты сусальным золотом. На крыше развевался жёлтый штандарт с двуглавым орлом.
Минька посмотрел на скромный угловой домик в три окошка и удивился: какой же это дворец? Может, внутри такая красотища, что ахнешь?
– Пётр Порфирьевич, а можно посмотреть золотую палату?
– Избы Ситникова уже нет, кадет Вознесенский, её купили другие люди, сломали и построили новый дом… Ну-с, кто идёт греться и пить чай?
Минька замёрз в шинельке и с удовольствием подумал о чашке горячего сладкого чая, охотно сбросил лыжи и прошёл за Спартанцем в дом. Сидя в кухне на скамье, Воробей дул в кружку, потягивал чаёк, чувствуя, как тепло расходится по телу и щёки начинают гореть.
– А здорово в походе, да? – посмотрел он на Севку. – В другой раз ещё пойдём?
Тот ответил без колебаний:
– Разумеется.
Минька глазел в окно на овраг, где катались старшие кадеты. Они бесстрашно мчались с крутых склонов, вздымая облака снежной пыли, и так здорово у них получалось, что Воробей позавидовал.
– Пойдём? – мотнул он головой на окно. – Скатимся с горы по разику.
Ему казалось, что если выбрать не такой крутой спуск, то съехать в овраг будет легко. Смело подошёл к краю и сильно оттолкнулся палками. Не успел Минька опомниться, как перед глазами всё завертелось, он ткнулся носом в сугроб. Поднялся под смех ребят, вытер облепленное снегом лицо.
– Не умеешь, смотри, как надо! – крикнул Севка. Ему, наверно, тоже казалось, что с невысокого склона съехать будет просто даже новичку.
Миловский не удержался на ногах и упал, покатился кубарем. Раздался треск.
– Что у вас случилось? – забеспокоился Спартанец.
– Лыжа сломалась… – Севка чуть не плакал. У него оказалась сломана не только лыжа, но и бамбуковая палка.
– Руки и ноги целы, а лыжи – ерунда. Неудобно, но идти можно и на сломанных.
Командир отдал Севке свои палки и велел всем кадетам трогаться в обратный путь: день клонился к вечеру.
Мороз усилился, задул ледяной ветер, и старшие кадеты побежали быстрее. Вереница лыжников растянулась. Беликова, который шёл далеко впереди, Минька видел как тёмную точку на ярко-белом снежном поле. У него сильно озябли руки в мокрых перчатках, в сапогах хлюпало, пальцы закоченели.
На Севку было жалко смотреть. Снег прилип к подошвам сапог, Миловский терял лыжи, падал, вставал и снова падал.
– Так мы и до утра не дойдём, – проворчал Воробей, отворачиваясь от ветра. – Давай поменяемся лыжами, я получше тебя хожу.
Севка не стал возражать. Скинул лыжи и непослушными пальцами затянул ремешки.
Пока провозились с лыжами, совсем потеряли из виду товарищей. Ветер разгулялся по степи, заметал лыжню. Вокруг простиралось сплошное белое поле, теперь Минька слабо представлял, в какую сторону двигаться, и напугался. Дядя Семён рассказывал, было дело, как легко заплутать зимой в степи. Он сам часто ездил с обозом на ярмарку, знал не понаслышке.
«Отстал от обоза в пургу – всё, бабе можно в поминальник записывать», – говорил он, попивая на кухне чаёк. Ямщикам ещё не так плохо, у них лошади есть, они дорогу чуют. А у Миньки никого. И зачем ему такое бесполезное умение – торкать глазами, лучше бы нюх собачий имел, чтобы след отыскать.
– Замёрзнем мы с тобой тут. – Севка повалился в сугроб. – Всё, я дальше не пойду. Буду ждать, когда меня отыщут.
Минька остановился, тяжело дыша, оперся о палки.
– Разнюнился, как баба, а ещё кадет. Вставай, до корпуса всего две версты осталось, – сказал он и добавил со злостью: – Вставай, или я тебя побью!
– Врёшь… Если бы две версты, мы бы уже в роще были. А где она?
Уговорами и угрозами Воробей поднял Севку, заставил идти вперёд. Вдруг в сумерках показалась чья-то высокая худощавая фигура, и друзья с облегчением узнали командира.
– Пётр Порфирьевич, мы здесь! – закричал Севка.
– Всё благополучно? Идти можете, кадеты?
У Миньки будто сил прибавилось от этого бодрого голоса, и он ответил за двоих:
– Так точно!
– Ладно. Держитесь за мной, не отставайте.
Бежать стало легче, ветер стих, и они быстро добрались до рощи, перешли по льду реку и с радостью увидели набережную и освещённый фонарями кадетский корпус.
– Понравилась прогулка? – усмехнулся Дударь, и друзья весело гаркнули:
– Так точно, господин полковник!
***На другое утро Воробей встал с постели вялым, голова была тяжёлой, будто чугунной. На занятиях его всё тянуло лечь грудью на парту и хоть чуточку подремать. На уроке немецкого Минька не смог прочесть наизусть стихотворение, хотя ещё вчера знал его назубок.
– Что с вами, Вознесенский? – спросил учитель, глядя поверх очков. – У вас красное лицо. Заболели?
– Да… кажется. Разрешите сходить в лазарет.
– Разрешаю, идите.
Воробей вышел из класса под завистливые взгляды товарищей.
Миньку положили в лазарет. Перед этим фельдшер усадил Воробья на кушетку, едва выслушав жалобы, дал термометр и все десять минут глаз с него не спускал. Такая предосторожность была обязательна: некоторые хитрые кадеты потихоньку настукивали на градуснике высокую температуру, чтобы отдохнуть от надоевших занятий и строевой подготовки.
В лазарете он оказался не единственным больным, на кроватях лежали несколько ребят разного возраста.
– О, это же фокусник! – оживился Володька Ефимчук, взрослый кадет лет шестнадцати с пробивающимися усиками и пышным чубом. – Забыл твою фамилию…
– Вознесенский, – подсказал Минька.
– Точно. Ну что, Вознесенский, заболел или отдыхаешь от истории с математикой? Да не тушуйся, здесь все свои. Если хочешь, научу фокусу с термометром.
Воробей заинтересовался:
– А что за фокус?
– Хочешь ты, к примеру, назваться больным, а температуры нет. Берёшь градусник, настукиваешь температуру тридцать восемь и идёшь к фельдшеру. А потом – фокус-покус! – отдаёшь свой термометр ему. – И Ефимчук рассмеялся. – А в лазарете хорошо: тепло, светло… Спи сколько хочешь, отдыхай, книжку читай, в окно смотри.
– Нет у меня термометра, – покосился Минька.
– Так из дома возьми, когда в увольнение пойдёшь.
– Оставь его в покое, Володька, – вмешался смуглый кадет с узкими чёрными глазами, – у него отец мулла, священник, а ты учишь его обманывать.
Миньку клонило в сон. Он укрылся с головой одеялом и проспал до самого обеда, даже болтовня и смех кадет ему не мешали.
Всё же в болезни была своя прелесть. Четыре раза в день поварёнок приносил щи, кашу с мясом, кисель и французские булки. Минька сидел в тепле, наблюдал через стекло, как маршируют на плацу кадеты, слушал, как Юнусов молится на пустую кровать в углу: «Алла! Алла!» – и читал книгу про гипноз, которую одолжил ему фельдшер.
Другие больные развлекали себя разговорами. Минька с удивлением узнал, что раньше по праздникам в корпус приходили девицы из женского института или же кадет приглашали к ним.
«Так вот зачем нас заставляют танцевать, чтобы перед девчонками не опозориться», – догадался Минька. Сам он втихомолку танцы не одобрял, лишь терпел, считая пустой тратой времени. Учитель делил ребят на пары: один кадет был за даму, второй за кавалера, потом менялись. Разучивали под музыку полонез, менуэт, лансье, кадриль, вальс и русские танцы.
– Теперь не приглашают, после одного случая, – с сожалением сказал Ефимчук. – Наши кадеты ухлёстывали за девицами, записочки передавали через одного учителя. Один кадет по фамилии Обметко влюбился в хорошенькую институтку, а за ней другой ухаживал. Обметко просил её дать фотографию, чтобы смотреть и вздыхать ночами, а девица не дала. И тогда кадет поспорил, что проникнет в институт и сфотографирует свою возлюбленную.
«Ого, какой смелый! – восхитился Минька. – Как же у него получится?»
– Вот что он придумал. Прифрантился, усики подкрутил, надел штатское и вдвоём с другом явился в женский институт, прямо к начальнице. Мы, говорит, корреспонденты из столицы. Наша газета с интересом следит за образованием молодежи и будет признательна за статью. Мы, говорит, много наслышаны об исключительно успешном ведении дела и просим разрешения осмотреть институт, сделать несколько фотографических снимков. Если начальница позволит снять её в кругу выпускных институток, будет просто великолепно. Начальница была польщена таким вниманием. Кадеты делали снимки, и возлюбленную Обметко тоже сфотографировали, хоть она этого очень не хотела.
Пари он выиграл, но в тот же вечер директор получил письмо от начальницы института, она требовала исключить из корпуса лжекорреспондентов. Девицу отчитали за неумение держать себя перед столичными гостями. Она рассказала, что это были за гости. Кадет надолго посадили под арест, едва не исключили. Начальница теперь не приглашает кадет.
– Жалко… – вздохнул Минька.
– Ты не много потерял, маленьких на вечера не зовут. На Рождество у нас свой праздник будет, гости придут. Если повезёт, то пройдёшь тур с генеральской дочкой.
От разговора о балах перешли к спектаклям, а потом вспомнили про фокусы, которые показывал Минька. Кто-то пробовал повторить фокус, подвешивая мячи за леску.
– Вознесенский, расскажи секрет, ну как ты это делаешь? – пристали кадеты.
– Надо много репетировать, вот и всё, – небрежно ответил Воробей и отложил книгу. – Я ещё гипнотизировать умею.
Ефимчук фыркнул и взбил чуб.
– Ты, что ли, гипнотизёр?
– А хоть бы и так.
– Ловкий! А загипнотизируй меня.
– Да пожалуйста! Ложись на кровать, сейчас внушу тебе, что ты лёгкий, как пёрышко.
– И что с того? – усмехнулся Ефимчук.
– По комнате летать будешь.
Кадеты рассмеялись, а Володя громче всех. Не поверил, ясное дело. Он лёг и, дурачась, сложил руки на груди, изображая покойника.
– Голова становится лёгкой, невесомой, – начал Минька тягучим, сонным голосом, – руки, ноги, всё тело становятся лёгкими, как пух. Глаза закрываются… Ты, кадет Ефимчук, хочешь спать…
Кадеты сгрудились у кровати, усмехались и подтрунивали над Минькой.
Ефимчук приоткрыл один глаз:
– Зря стараешься, я спать не хочу.
– Дыхание медленное, спокойное, ровное, – бубнил Воробей. – Всё путается в голове, всё стирается, всё исчезает. Тобой всё больше овладевает дремота…
Внезапно Володьку приподняло над кроватью. Тот судорожно дёрнулся и взмахнул руками.
– Что ты делаешь, опусти меня!
– Это гипноз, Ефимчук, – рассмеялся Минька, – веришь теперь, что я умею гипнотизировать?
– Верю, верю, опускай ради бога!
– Пожалуйста! – Воробей отвернулся, и Володя упал на кровать.
Кадеты окружили Миньку, загомонили. Говорили, что он талант и сможет работать в цирке иллюзионистом, вырывали друг у друга из рук книгу «Гипноз и внушение» профессора Грассэ, фантазировали, как весело было бы загипнотизировать учителя на проверочной работе, всё переписать из учебника и получить по двенадцать баллов.
Воробей заскучал. Ему надоело валяться целыми днями в постели и ничего не делать, надоело глотать горькие порошки. Во дворе ребята с криками штурмовали Измаил и, кажется, уступали туркам, а всё потому что Воробей не с ними, уж он бы задал жару!
На утреннем осмотре Минька заявил врачу, что чувствует себя здоровым.
– Разрешите вернуться к командиру!
Врач заглянул в журнал, обстукал Миньке спину и грудь, выслушал через трубочку и сказал, что после обеда ему отдадут форму и проводят в роту.
***В танцевальном зале гремела музыка.
– Раз-два-три, раз-два-три! – считал учитель Белов, щеголевато одетый молодой человек. – Сумароков, что вы скачете козлом? Мазурка – это лёгкость и грация, это полёт! Вознесенский, возьмите Миловского за руку… Кто из вас дама – вы или он? Раз-два-три! Носок тянем!
– Глупейшее занятие… зачем нам эти танцы? – проворчал Севка и обежал стоящего на одном колене Миньку.
– Раз-два-три… поменялись! Будете танцевать с девицами, старайтесь не наступать на подолы чаще трёх раз за тур, – пошутил учитель и засмеялся.
– С какими девицами? – удивились кадеты.
– Как, вы не знаете? На Рождество будут гости. Но увы… увы! На праздник пойдут не все, только те, кто прилежен и у кого не менее одиннадцати баллов по дисциплине… Не возмущайтесь, господа, не гудите. Полонез!
Никогда ещё поведение кадет не было таким образцовым. Они старательнее учились и одолевали учителей просьбами исправить низкие баллы. Второгодник Лосев смотрел на эту суету с презрительно оттопыренной губой: он прочно занял место в разряде ленивых кадет, а таких не брали на праздник.
«Небольших способностей, крайне ленив», – писали воспитатели в характеристике. Петьку лишали сладкого, впрочем, он ухитрялся обменять всякую дребедень на булки и пирожные, выманивал их у младших кадет угрозами или лестью. Лосева не отпускали в увольнение и оставляли столбом у печки. Всё это вместе взятое должно было сделать из лентяя прилежного кадета.
– Старайтесь, зубрилы, старайтесь, – бурчал он, сидя на подоконнике и жуя пирожок, – все вы подлецы и фискалы.
– А ты, Лосев, на третий год остаться хочешь? – поддел Минька.
Петька обозлился и показал кулак.
– Вот ты скотина, Лапоть! Фискал и подлиза! Попадись ты мне, я тебе загну салазки!
– Ну? – исподлобья посмотрел Минька на Лосева, и у того шевельнулись отросшие волосы, как от дуновения ветра. – Ты когда рубль отдашь? Проспорил – отдавай.
– Фу ты чёрт, связался с тобой… Сказал – отдам. Поди прочь, – пробормотал Петька.
Минька любил Рождество, для него это был двойной праздник. В актовом зале установили высокую ёлку, украсили стеклянными шарами, гирляндами из разноцветных флажков, конфетами, пряниками, облитыми голубой сахарной глазурью. Хорошо пахло хвоей, морозом и свечным воском.
До переезда в город Минька такую роскошь видел только в книжках: у них в селе на Рождество ёлок не наряжали и подарков не дарили. Воробей изумился, когда батюшка в первый год повёл его на ёлку, устроенную супругой губернатора Александрой Фёдоровной.
Боже мой, какая это была ёлка! Огромная, до самого потолка, от макушки до низа украшенная серебром и золотом, флажками, гирляндами, хлопушками, зеркальными висюльками и стеклянными игрушками: петушками, белками, крохотными балалайками, снежинками и ещё много чем.
Минька смотрел на это великолепие с открытым ртом, чувствуя себя самозванцем. Мамка, Царствие ей Небесное, говорила, что ёлка – господская забава, а им, беднякам, не до жиру, быть бы живу. А как бы хорошо устроить для сельских ребят такую ёлку! Ну пусть не такую, поменьше, но непременно наряженную, с бумажными цепями и свечками. Хороводы водить, песни петь… А после чай пить с конфетами и печеньем курабье.
К вечеру стали собираться гости. Были среди них и дамы, и девочки – дочери воспитателей и учителей, румяные с мороза, весёлые, причёсанные по-взрослому и одетые в шёлк и кисею. Тонкий аромат духов смешивался с запахом хвои. Воробей с опаской смотрел на длинные подолы девичьих платьев: а вдруг он будет танцевать и наступит?