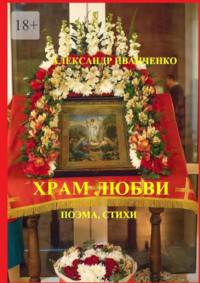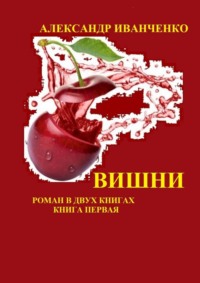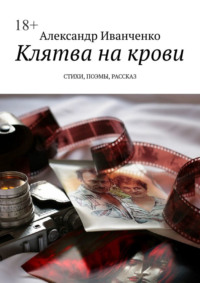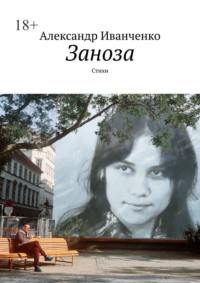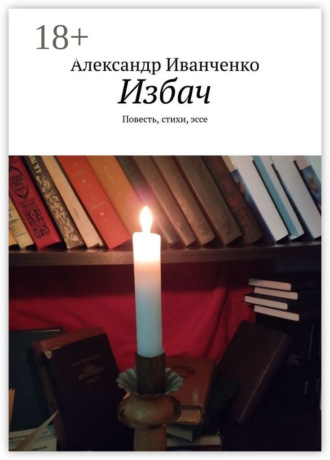
Полная версия
Избач. Повесть, стихи, эссе
«Нет! Нет-нет, не может быть, чтоб Алёшка…» – гнал Ваня из головы постоянно атакующие разум сомнения.
Вечером за столом, Алексей, рассказал свою невероятную историю, которую не всегда даже встретишь в приключенческих, фантастических повестях и романах. Алексей, покушав, поблагодарил мать, отложил ложку с миской в сторону, положил на стол руки, скрестив пальцы замком, как на исповеди, обвёл взглядом всех, пребывавших в полном молчании членов семьи: родителей, старшую и меньшую сестру, а затем повернулся и к Ванюшке, который отсел на лавку у стены, сидел с опущенной головой. Как-то измученно попытался улыбнуться, но это плохо получилось и, глядя прямо в глаза папаше, начал свой длинный рассказ.
И чем дальше уводило повествование Алексея родных, тем напряжённей становились их лица, выражения лиц сменились на сочувственные к пережитым моментам, дням и месяцам, проведённых сначала в аду, а потом в поиске дороги из того ада.
Из рассказа следовало, что Алексею повоевать пришлось менее трёх месяцев и большую часть этих дней приходилось пытаться прорваться из окружения. Изначально, Алексей, служил водителем на такой же «полуторке», как и на гражданке, с той лишь разницей, что подвозить приходилось снаряды на передовые позиции. В одном из боёв вражеским снарядом автомашину разнесло вдрызг. Бог миловал, и Алексей отделался лёгкими ранениями и контузией.
Фронт продвигался на восток так стремительно, что «угнаться» за ним, да ещё и скрытно, украдкой, чаще ночами, было невозможно. В одном из селений изнемождённого бойца приютила женщина, накормила, дала одежду мужа, который также находился где-то на фронте. Книжку красноармейца и партбилет Алексей прикопал на усадьбе хуторянки.
Больше месяца Алёша догонял фронт, чтобы попытаться его перейти. И догнал в аккурат на родной земле, когда фронт ненадолго остановился на рубеже Миус-фронта. В одну из тёмных октябрьских ночей, под постоянным обстрелом рубежей фронта с обеих сторон ему удалось форсировать Миус.
На левом берегу, когда он добирался домой, при встрече с красноармейцами, даже его возраста, его называли дедушкой. Он был настолько неузнаваем, что даже родители, крестясь, отталкивали его, как прокажённого.
Сколько лишений, боли и испытаний отражалось в его, после бриться и отмывания лица, глазах, что все сомнения, хоть и не сразу, ушли прочь. Все эти изменения хорошо отслеживались на поведении меньшего брата. Он сначала искоса посматривал на брата, потом всё уверенней и уверенней, и вскоре он смотрел на брата, и слушал его с таким интересом и сопереживанием, что казалось, если в его полуоткрытый рот влетит воробей – он бы и глазом не повёл.
Действительно, всё сказанное было нереально и, казалось невозможным вымыслом, но до тех пор, пока слушателей не убедила та прямота взгляда, с которой Алексей смотрел, без утайки им в глаза и душевная прямота с искренностью, что сомнений не осталось. Родители поняли, что сын говорит истинную правду. А сестры были готовы своей душевной теплотой обнять брата и защитить от дальнейших невзгод, которые ему ещё предстояло пройти. И ещё неизвестно, что было труднее, пройти сотни километров по территории, оккупированной захватчиками или тот путь и все испытания, которые только предстояло ещё пройти.
Закончив рассказ, после того, когда в доме наступила испытывающая терпение тишина, Алексей первым её прервал, попросил отца:
– Батя, дай табачку!
– Алёшка! Ты же… Да, конечно, держи! – протянул сыну кисет с самосадом и, доставая бумагу, добавил, – сам или свернуть?
– Сам, батя, сам!
Ваня смотрел на брата совсем другими глазами. Он пытался его сравнить сначала с Пашкой Корчагиным, потом с русскими богатырями из былин и после недолгих поисков прототипа, решил: «Алёшка – ни на кого не похож и ни с кем не сравним. Алёшка – он Прасол! Он не книжный, не былинный, а настоящий, он – Алексей Прасол!»
Отец спросил старшего сына:
– Что думаешь делать? Ведь о тебе, как я понял, командование ничего не знает?!
– Да, батя, завтра пойду в военную комендатуру или что тут вас есть, пусть временная власть прифронтовой зоны. Всё расскажу и попрошу связаться с командованием моей части, если б знать…
– Что, Алёша, если б знать?
– Если б знать, что и кто от неё, этой части осталось. Там такое было, что не расскажешь всего, просто жутко вспоминать, когда земля горит, металл горит…
– На том и порешили. Утро вечера мудреней.
В ту ночь, наверное, никто не мог уснуть. А Ваня уж точно. Он прокручивал рассказ брата, как киноленту фильма, возвращаясь тем или другим событиям дважды-трижды, чтобы прочувствовать всё так, если бы вместо Алёши там был он сам и продумать, как бы сам поступил в той или иной ситуации.
Утром, когда Ваня проснулся, Алексея уже в хате не было, не было его и во дворе. Ванюшка позаглядывал во все места, где мог только уединиться брат, но его нигде не было.
«Опоздал! Он ушёл, а я ему хотел что-то важное сказать… Ну ничего страшного. Придёт и скажу. А, если… Да никаких „если“, придёт, а как иначе?» – не находя себе места, думал Ваня.
Алексей пришёл ближе к обеду. Он был серьёзен и задумчив. Рассказал, что встречался с командиром временно размещённого, для пополнения батальона, направляемой на Миус-фронт дивизии. Тот, узнав его историю и то, что Алексей водитель, предложил пополнить ряды его подразделения. На просьбу Алексея он ответил, что связаться с его бывшим командованием он не сможет, так как это не только другая дивизия, армия, но и фронт не Юго-Западный, а Южный. После отказа Алексеем продолжить службу в его подразделении, комбат предложил дождаться особого отдела, который, разобравшись в ситуации, решить его судьбу.
Догадывался ли Алексей о том, какая судьба его ждёт? Скорее да, чем нет. Но это будет уже завтра или послезавтра.
А послезавтра Ваня видел своего старшего брата последний раз. Алексею «повезло», если так можно в этом случае выразиться, что он сам пришёл с явкой и многие факты, после проверка по каналам особого отдела, подтвердились. И потому, одним из самых страшных преступлений, по словам капитана государственной безопасности было то, что Алексей «избавился» от партбилета.
Приговор был, что гром, среди ясного неба – «восемь лет лишения свободы, без права переписки».
***
Второй год Иван Прасол заведовал избой-читальней. Если изначально было кое у кого опасение, что не справится, ребёнок-то ещё. А теперь уже скоро исполнится 17 лет. И работа ладится и зиму пережили. И в результате Белорусской наступательной операции лета 1944 года, Красная армия вышла на рубежи довоенной границы СССР.
Семья получила весточку, что Алексей Фёдорович пропал без вести, без подробных объяснений, где, когда и при каких обстоятельствах. Осталось только догадываться, что скорее всего, он участвовал в боевых подразделениях штрафбата, где и потерялась, только что появившаяся ниточка его судьбы.
Иван, рождённый в конце июля, ожидал призыва в армию, так как призывали теперь с 17 лет. И, хоть у него были ограничения, но на военное время это ограничение по состоянию здоровья не действовало.
Возвращались фронтовики, списанные по ранению и инвалидности, безрукие, безногие и по других показаниям. Продолжали приходить и похоронки, а кому-то и такие же извещения, с формулировкой «пропал без вести». Редко какую хату миновала беда, у кого-то не стало хозяина семейства, у кого-то сына и не одного. Но, несмотря ни на что, общий настрой был более-менее позитивный. Красная армия гнала врага и итог войны был давно известен, оставались считанные месяцы. Но они стоили десятков и сотен солдат, освобождавших восточную Европу от «коричневой чумы».
Те селяне, которые знали, хотя бы в общих чертах, о той трагической случайности, которая приключилась со старшим братом избача, старались не затрагивать эту больную тему. Да и в каждой семье были свои трагедии, с которыми нужно было просто смириться и жить дальше. Село жило одной болью, которую им в один момент преподнесла война и лишь в дополнении к общей боли, в разные моменты пронзала сердца тех или иных ещё и личной болью, которая сливалась так или иначе в общий котёл и переносилась людьми от поколения к поколению. Одним из «обменных пунктов» и была изба-читальня – информационный, культурный и духовный центр жизни села. Церкви-то в селе не было. Ближайшая находилась более, чем в 15 км и не каждый мог посетить и отстоять службу, поставить свечи за родных и близких, чтобы Господь их хранил, за воинов-освободителей русской земли от фашистской нечисти, и поставить свечи за упокой душ убиенных.
Конечно, юноша, к которому вечерами стекался люд, чтобы ощутить единство мыслей и чаяний, поделиться радостью за родных и близких, бьющих врага на фронте, не мог им заменить духовника, но в какой-то степени приходилось принимать исповеди людей, особенно, когда это происходило в доверительных беседах, в спокойной обстановке, когда эмоциям каким-либо событием был дан толчок и вот уже льётся поток откровений. Остаётся только внимательно слушать, не перебивать и, упаси. Господи, не осуждать. А ведь порой «открывались» и те, кто совершил когда-то преступление по отношению к другому человеку, и оно не было связано с убийством врага на фронте… Не позавидуешь молодому «духовнику».
Чтобы поставить точку на теме мучавшей парня, по поводу того, каким был его старший брат, Алексей Прасол, нужно перескочить на десять лет вперёд, в то время, когда, после смерти вождя всех народов И. В. Сталина десятки тысяч осуждённых были выпущены по амнистии и в село вернулись те, кто вёл отсчёт не дней в окопах, а в застенках тюрем и лагерях.
Как-то зашёл в сельский клуб, с первого взгляда незнакомый человек, но по чертам худощавого, морщинистого лица, напоминающий одну из фамильных династий местных жителей. Он был беспечно-самоуверен, сделал несколько шагов, окинув всех присутствующих равнодушным взглядом и произнёс:
– Вечер в хату!
Подошёл в библиотеке к столу, где лежали книги, принесённые читателями, но ещё не распределённые на полки по алфавиту и тематике, машинально перелистал несколько страниц верхней книги и продолжил, обращаясь к Ивану:
– Ты, что ли тут писаниной заведуешь? А ты чей? Не припоминаю, чьих будешь…
– Завклуб, Прасол Иван…
– Думаю, кого это ты мне напоминаешь. Так это кем тебе Алексей доводится, дядей или братом?
– Алёша – брат мой.
– Знавал я твого брата, знавал. А, что он, вернулся из мест не столь отдалённых?
– Нет. Он пропал без вести…
– Во, как! Ладно, если побег… Хотя за ним и двери не нужно было закрывать, а просто скажи: «Отсюда ни шагу!» – никогда не уйдёт. Редким был твой брат, как не от мира сего.
– Он коммунистом был.
– Повидал я и бывших коммунистов там много. Но этот… Этот, нет чтоб кусок хлеба на шконке втихаря заточить, со всеми поделится. Я же говорю, что он не от мира сего. Там так нельзя, не выжить. Он – мужик, честный чересчур. И это могло его погубить. Хотя, если «пропал без вести», то возможно ещё раз пороха нюхнул разве, если «подписался»… А там, где мы с ним хату делили, он точно весь срок бы не вытянул. Я тебе точно говорю, парнишка. Он не как все был, а может…
Бывший зек замолчал, достал пачку папирос, предложил Ивану и сам закурил и предложил:
– Помянем молчанием, если Бог его забрал к себе… Я в Бога не особенно верую, но говорят, что Он лучших к себе в первую очередь забирает. Не знаю, парень, утешит ли тебя это, но твой брат был правильным, и не важно, что он коммунист, он был человеком. Поверь мне, я за дюжину лет всякого брата там насмотрелся и знаю, что говорю…
Сначала у избача было желание побольше расспросить у незнакомца о своём брате. Но, немного подумав, решил, что он узнал главное, что мучило его долгие двенадцать лет. И то, что рассказал этот человек, который уходя повернулся к Ивану и улыбнувшись произнёс:
– Будь здоров, тёзка! И пойми честным и правильным – не всегда есть хорошо. Заклюют, затопчут. Это в библиях говорится «ударили по одной щеке – подставь другую…». А на нашей грешной земле, не будешь держать удар – забьют, уничтожат. Вот видишь, я здесь. А где твой брат?
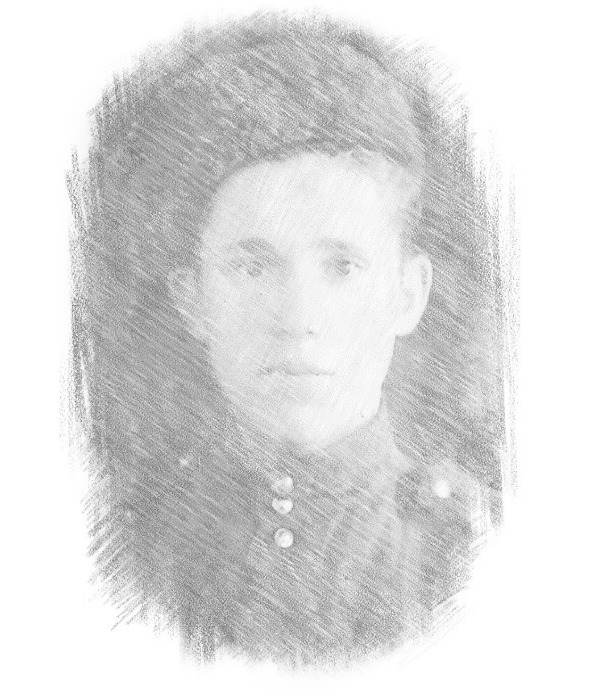
3
В ноябре месяце Ивана Прасола вызвали на военно-врачебную комиссию. Он был признан годный в воинской службе в военное время и через два дня необходимо явиться в военкомат для отправки на областной сборочный пункт.
Сразу после прохождения комиссии, Ваня отправился в районо, чтобы поставить руководство о необходимости расчёта и передачи дел. Заведующий районо высказал сожаление и в тоже время пожелание: «Отслужишь, Иван Фёдорович, будем рады видеть снова в числе наших работников. Счастливой службы!»
Вечером, за ужином, не столько на правах «виновника», а по случаю обратился к родителям:
– Папаша! Мамаша! Пришло время и мне послужить. Сейчас на фронт нас, «молокососов» не бросают. Сначала в тылу погоняют, всем премудростям обучат. А потом…, а там глядишь, и война закончится. Вот только мужиков в семье, окромя бати и не остаётся. Но, не ровен час, Нюрочкин вояка-танкист возвернётся с победой. Да и Алёша… найдётся, даст Бог. Тогда и Наталье с Полиной женихи найдутся. Папаше чуток ещё поясок затянуть придётся и поднатужиться.
– Хватит тебе, новобранец. Это тебя «изба» рассобачила. Всё шутки да прибаутки на уме.
– Жаль, что невестку в дом не успел привести. Была бы помощница, пока я служить буду.
– Ага! Нахлебница! Мужиков сейчас война проредила основательно, бабы падки на косых, хромых и безруких, да и недорослями не погребуют, – сердито ответил сыну-юмористу глава семьи.
– А кого же заместо тебя туточки поставят избачом? – поинтересовалась, обычно молчаливая Полина.
– Да, кроме тебя я лучшей кандидатуры не вижу. Девица на выданье, 20 лет, косой белява, щекой румяна – кофе с молоком! – Ваня закатывался смехом, видя, как старшая сестра уже выходила из себя.
– Ванька, щас врежу! – громко и резко Поля оборвала братца и вскочила из-за стола.
– Ну ладно тебе. Я же шучу. Вот уйду года на четыре, будешь ещё за мной плакать.
– Буду! Но это не повод, чтобы издеваться. Вот и хорошо, что тебя на свадьбе не будет. Не переживай, тебя ждать не буду – найду кавалера, обзавидуешься.
Отец хлопнул ладонью по столу:
– Цыц! Раскудахтались.
Поезд уносил Ивана и таких же, как он новобранцев из Батайска на восток. Парни впервые увидели не из сообщений Совинформбюро, газет и рассказов очевидцев, а воочию, во что был превращён город Сталинград, ставший для фашистов отправной точкой в обратный путь, по земле, выезженной ими же, по селам и городам, разрушенных ими же, бомбёжками и артобстрелами. Юноши увидели Волгу-матушку, ставшей для немецких захватчиков неприступной Китайской стеной, как бы это странно не прозвучало.
Поезд двигался на северо-восток, где люди, хоть и жили в то же военное время, но куда не ступал кованный сапог фашистского оккупанта. Климат здесь был всё суровее. По утрам были уже заморозки и то там, то здесь в небольшие окна вагонов-«теплушек» залетали пушистые «белые мухи».
Сопровождающие пытались из этих безусых новобранцев делать дисциплинированных воинов, но это не всегда и не со всеми получалось. И как наказать тех, кто не принял ещё присяги и наказать по Уставу не получается?! Только уговорами. А за рукоприкладство, если чё, можно было под трибунал залететь.
Во время войны везде и всюду были видны плакаты и призывы, такие как «Всё для фронта! Всё для победы!» И промышленность, заводы, фабрики, сельхозартели – все трудились для фронта, ради победы, которая уже была не за горами. Военная промышленность за три года войны стало прочно и уверенно на производство самолётов, танков, артиллерийских орудий и стрелкового вооружение, внеся тем самым коренной перелом в войне. Лёгкая промышленность в свою очередь обеспечивала солдат обмундированием и обувью. Солдаты получали достойное питание и сухие пайки. Ведь голодный и холодный солдат на одном энтузиазме и идеях долго не будет воевать.
И всё вроде бы хорошо, но было одно «но». Новобранцем, призванных осенью одели в одежду и обувь, которая завалялась на складах ещё с довоенного периода. А кое-что ещё с Первой Мировой ожидало своих хозяев. Ну, хотя бы взять ботинки и обмотки. Хоть они и имели ряд преимуществ, по отношению к сапогам, но одновременно и не меньше минусов. Ботинки в жару – плюс, а в распутицу – минус и т. д. Шинели, из-за длительного хранения могли просто-напросто быть изрядно «побиты» молью. Вот в такое обмундирование были одеты новобранцы. И смех, и грех и плакать хотелось, при виде таких вояк. За то, что подгонки по размерам не было. Обычно интенданты говорят: «Бери, что дают. Там на месте обменяетесь.»
Конечным пунктом назначения была станция Татищево, Саратовской области. Здесь и пришлось начинать службу Ивану с товарищами. Обживали казармы, привыкали и голодали.
Когда Иван Фёдорович отслужил и его спрашивали, что запомнилось из службы в Татищево. При этом он непременно вспоминал обязательно две вещи.
Первое, как в свободное от занятий строевой и политической подготовкой ходили к деревянному строению, где располагалась столовая, но заходили с задней стороны. Там было место, куда выбрасывали очистки картофеля. Они были мёрзлые, хрустели на зубах, но набивали желудки, которые до этого так урчали, что рёв танка был, как представлялось, по сравнению с этим, что писк котёнка.
Сорок четвёртый год, всё для фронта и это, бесспорно, правильно. И юноши голодали потому, что нужно было в первую очередь заботится о тех, кто приближал победу, проливал кровь, отдавал за Родину жизни. Потому, какие обиды?! Разве, что чуть-чуть.
Но хлебушек, в отличие от блокадного Ленинграда, выдавался по существующей, для данной категории военнослужащих, норме и каши, какие-никакие, а для «поддержания штанов» годились. Конечно, вспоминался хдебушек тот, домашний, спечённый из муки, которую мололи на Ряженской мельнице из зерна, собранного на семейных наделах. Да ещё испечённый в русской печи, да и с румяной корочкой, горячий и дышащий жизненной энергией и счастьем мирного довоенного детства.
По этому поводу, Ивану, часто вспоминался рассказ матушки о случае, который произошёл задолго до его рождения. Это было в 1914 году, до рождения второго сына Григория. Как говорится, Анастасия ходила «на сносях». Мужа Фёдора призвали в армию, и он служил чуть посевернее, чем сейчас его сын Иван, в той же Саратовской области. Вот решилась молодая жена проведать мужа. Собралась, а свекровь говорит: «Настя, а что мы с мальчуганом будем делать, ему-то два года всего, будет без родителей ныть и нам ни покоя, ни работы никакой не будет. А хозяйство, без Фёдора и тебя всё на нас легло. Забирай Алёшку с собой. И отцу будет радость, сына повидать.»
На том и порешили. Едут в поезде. Карапуз Алёшка, «обживающий» плацкартный вагон, прыгающий через узлы и чемоданы, не мог не привлечь внимание пассажиров. Кто-то заговорит с ним, а кто-то, растрогавшись и леденец даст.
Сердобольная женщина, подозвала карапуза, отломила ломоть ржаного хлеба и с улыбкой протянула ему, в надежде, что он отблагодарит её за это, как минимум своей детской наивной улыбкой. Но реакция была непредсказуема. Малец надул губы, втянул в плечи шею, опустил голову и произнёс слова, которые заставили закатиться со смеху, как минимум, половину вагона, тех, кто слышал это:
«Ны буду! У мене буде животик болить…».
Но не все даже поняли, почему он так сказал. Ведь тот хлеб, который пекла мать из муки южных сортов пшеницы и этот, были, что небо и земля.
Снился, конечно, дом, родные, то, что было когда-то и то, что грезилось, непонятно к чему. Но чаще всего, после напряжённого дня, уставший новобранец, спал, как младенец.
И ещё один случай запомнился Ивану. Когда уже немного пообвыклись на месте: к порядку выполнения приказов и несения караульной службы, знали порядок обращения с командирами и товарищами, научились более согласованно и в ритм маршировать строевым шагом на плацу, заправлять койку и наматывать обмотки, произошло вот что.
Привезли пополнение. И это пополнение выгодно отличалось от тех, которые здесь уже находились полмесяца. Не выправкой и бравадой, а формой одежды. На них не было вшивых, молью побитых, заваленных шинелей и заскорузлых ботинок с обмотками. На них были новые, как бы только с фабрики шинели, сияющие на солнце сапоги, красивые, не затасканные шапки. Да и лица вновь прибывших, не только угрюмостью, но и пока непонятно чем, отличались от тех, кого можно было назвать аборигенами.
Когда капитану Сыромятину подвели пополнение, доложив откуда прибыли новобранцы, то бывшего командира стрелковой роты Юго-Западного фронта перекосило гримасой, с выражением гнева, как будто он опять перед собой видит не тех, кого придётся обучать, а тех врагов, с которыми, капитан со своими сослуживцами, вёл непримиримые кровопролитные бои ещё этим летом и в тех же районах, откуда прибыло пополнение.
Осмотрев прибывших и обведя взглядом тех, с кем уже провёл не один час учебных и строевых занятий, объявил общее построение учебного отряда, при этом приказал новеньких построить в две шеренги, ровно напротив уже «притёршихся» к новому образу жизни, который принято называть службой.
Толи от мороза, толи от злости, которая ударила кровью в лицо, от чего оно стало багровым, кроме отчётливо выделяющегося через всё щёку белой «рванной» полосы – шрама, от осколка, сделавшего лицо боевого командира более воинственным и мужественным, а сам командир был отчётливее виден среди заснеженного плаца.
Парни, прибывшие в учебный отряд из недавно освобождённых юго-западных районов, перед войной вошедшие в состав Союза, выгодно отличались не только одеждой и своей холёностью, как минимум истощённых голодом не наблюдалось точно. Что увидел командир учебной роты, глядя на небрежный строй вновь прибывших, можно только догадываться. Но, а первым его приказом, был следующим.
– Равняйсь! Смирно! Первая шеренга… два шага вперёд… шагом… марш! Вновь прибывшим, раздеться до нижнего белья и портянок! – увидев нерешительность действий, повторил, – приказываю – раздеться! Даю три минуты. Время пошло!
Недоумевающие новобранцы, переглядывались, не понимая, зачем их заставляют раздеваться и, потому неуверенно, медлительно раздевались, ежась на морозе. Заметив, что «процесс» сдвинулся с «мёртвой точки», капитан повернулся к «аборигенам» учебного отряда и дал им точно такой же приказ. Эти, привыкшие уже к выполнению приказов и знающие, что может быть за неповиновение, выполняли приказ поживее первых.
– Сейчас будет «ледовое побоище», – высказал предположение Иван, повернувшись в полуоборот к своему соседу по шеренге и видя недоразумение того, добавил, – ну, как на Чудском озере, слыхал?
Видя, что сосед видимо плохо в школе учился или прокурил урок истории, попробовал зайти к теме с другого стороны:
– Сейчас человек с недублёной кожей, т. е. Сыромятин, даст команду: «К бою товсь! Вам необходимо сейчас в кулачном бою доказать «кто есть кто» и кому дальше быть, а кому…», – Иван резко замолчал и, как бы замер.
– Что-что, а кому? – дергая за рукав нательной рубашки, допытывался совсем растерявшийся парень, – что?
– Знамо, что – «в расход»! – Иван не выдержал, чтобы не закатиться смехом, заканчивая сматывать обмотки в рулоны.
– Отставить смех! – громогласно приказал капитан, повернувшись в сторону Ивана, – закончили раздевание.
Подождав несколько секунд, тем самым дав возможность медлительным «справиться с последней пуговицей», продолжил:
– А теперь занимаем позиции «условного противника» и овладеваем его имуществом. Вперёд, обеим группам, шагом… марш!
Курсанты сталкивались «на линии пересечения интересов» в прямом смысле, сбивая друг друга с ног, неумышленно, из-за неразберихи или, наоборот, сознательно. Когда всем стал ясен смысл процесса «переодевания», появились в кучие, и недовольные, и те, кому идея боевого офицера пришла по нраву. Как быто ни было, жалоб вышестоящему командованию не поступило. Вскоре разговоры о несправедливости или самоуправстве командира учебной роты улеглись, а справедливость принципа «каждому по заслугам» восторжествовала.
После укомплектации учебного отряда, «утряски» по взводам, с учётом воинской специальности, ВУС, Иван попал во взвод пулемётчиков. И не просто пулеметчиков, а был назначен в пулемётном расчёте «номером один», т.е. главный, стрелок. И была небольшая привилегия. В расчёте пулемёта «максим» первый номер вёл стрельбу и при передвижении, на марше обязан был нести на плечах ствол пулемёта, который весил 20 кг, а второй номер должен был нести пулемётный станок весом 40 кг. И ещё для охлаждения ствола полагался бочонок с 5-тью литрами вода. Скорее всего такой выбор продиктован тем, что у бойца «номер один» отсутствовал указательный, т.е. стрелковый палец. «Не было бы счастья, да несчастье помогло» – здесь поговорка в самый раз подходит.