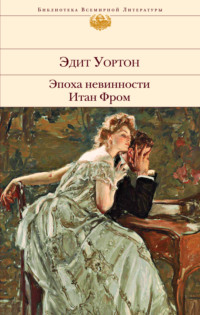Полная версия
Эпоха невинности
Лицо мисс Уелланд заалело, как утренняя заря, и она посмотрела на него сияющими глазами.
– Если вам удастся уговорить маму, – сказала она. – Но зачем нам менять то, о чем уже договорено? – Он ответил ей только взглядом, и она добавила, улыбнувшись еще доверительней: – Сообщите это моей кузине сами: я вам разрешаю. Она говорит, что вы с ней играли вместе, когда были детьми.
Она немного отодвинулась, чтобы дать ему пройти, и Арчер, не мешкая, даже немного нарочито, желая показать всем, что именно он делает, уселся рядом с графиней Оленской.
– Мы ведь и впрямь вместе играли детьми, не так ли? – сказала та, обращая на него серьезный взгляд. – Вы были несносным мальчишкой и однажды поцеловали меня за дверью; но я была влюблена в вашего кузена Вэнди Ньюланда, который на меня даже не смотрел. – Она обвела взглядом подковообразно изогнутый ярус лож. – О, как это все напоминает мне о прошлом – я вижу всех этих людей в коротких штанишках и панталончиках, – добавила она с чуть заметным протяжным акцентом, снова оборачиваясь к нему.
Какими бы любезными ни были при этом выражения их лиц, Арчера передернуло от мысли, что они в столь неуместно легкомысленном виде представляют себе этот августейший трибунал, прямо сейчас рассматривающий ее дело. А ничто не противоречит хорошему тону больше, чем неуместное легкомыслие. Поэтому он ответил довольно сдержанно:
– Да, вы долго отсутствовали.
– О, целую вечность, – согласилась она. – Настолько долго, что мне кажется, будто я уже умерла и похоронена, а это старое доброе место есть рай. – По причине, которую он и сам не смог бы сформулировать, это покоробило Ньюланда Арчера как даже еще более неуважительное описание нью-йоркского светского общества.
IIIВсе шло своим неизменным чередом.
Миссис Джулиус Бофорт в день своего ежегодного бала никогда не пропускала посещения Оперы, более того, она всегда назначала свой бал на день, когда в Опере давали спектакль, чтобы подчеркнуть, что она не снисходит до хозяйственных забот и имеет вышколенный штат прислуги, способной тщательнейшим образом организовать прием даже в ее отсутствие.
Дом Бофортов был одним из немногих нью-йоркских домов, в которых имелись бальные залы (он был старше даже домов миссис Мэнсон Минготт и Хедли Чиверсов), и в те времена, когда начинало считаться «провинциальным» перед балом затягивать пол в гостиной суровым полотном и сносить мебель наверх, безусловное преимущество обладания бальной залой, которая не использовалась ни по какому иному назначению и триста шестьдесят четыре дня в году покоилась в темноте за закрытыми ставнями, с позолоченными стульями, сдвинутыми в угол, и зачехленной люстрой, искупало все, что было достойно сожаления в прошлом Бофортов.
Миссис Арчер, любившая излагать свою философию общества в чеканных аксиомах, как-то изрекла: «У нас у всех есть любимчики-простолюдины…», и, хотя фраза была рискованной, она нашла отклик во многих аристократических душах. Однако Бофорты были не совсем «простолюдинами», хотя кое-кто считал, что они даже хуже. Миссис Бофорт на самом деле принадлежала к одной из самых почтенных американских фамилий, она была очаровательной Региной Даллас (из южно-каролинской ветви), красавицей без гроша, введенной в нью-йоркское общество ее кузиной, опрометчивой Медорой Мэнсон, вечно совершавшей неловкие поступки из лучших побуждений. Любой, кто принадлежит роду Мэнсонов или Рашуортов, имеет «droit de cité»[7] (как выражался мистер Силлертон Джексон, бывший завсегдатаем Тюильри) в нью-йоркском свете, но разве Регина Даллас не утратила это право, связав себя узами брака с Джулиусом Бофортом?
Вопрос состоял в том, кто такой сам Бофорт. Он считался англичанином, был приятен в общении, красив, вспыльчив, гостеприимен и остроумен. В Америку прибыл с рекомендательными письмами от английского зятя миссис Мэнсон Минготт, банкира, и быстро завоевал весомое положение в деловом мире, однако был склонен к разгульной жизни, злоязычен, и истинное происхождение его оставалось тайной, так что, когда Медора Мэнсон объявила о помолвке с ним своей кузины, это было сочтено еще одним безрассудством в длинном списке неосмотрительных поступков бедной Медоры.
Но безрассудство так же часто приводит своих «детей» к успеху, как и мудрость: спустя два года после памятного бракосочетания дом молодой миссис Бофорт был признан самым изысканным домом Нью-Йорка. Никто не понимал, как свершилось это чудо. Регина была ленива, пассивна, злые языки даже называли ее тупой, однако, разодетая, как богиня, увешанная жемчугами блондинка, становившаяся с каждым годом словно бы моложе и красивей, она царила во дворце мистера Бофорта, построенном из тяжелого коричневого песчаника, и приманивала к нему весь высший свет, даже не пошевелив унизанным кольцами пальчиком. Судачили, будто Бофорт сам школит слуг, учит шеф-повара приготовлению новых блюд, говорит садовникам, какими выращенными в теплицах цветами украшать обеденный стол и гостиные, составляет списки гостей, готовит послеобеденный пунш и диктует жене записки, которые та рассылает своим друзьям. Если так действительно и было, то вся эта домашняя жизнь свершалась втайне, а свету он являл образ беззаботного гостеприимного миллионера, входящего в собственную гостиную с отрешенностью гостя, вопрошающего: «Эти глоксинии моей жены восхитительны, не правда ли? Кажется, она заказывает их из Кью[8]».
Секрет успеха мистера Бофорта, по общему мнению, заключался в том,как он ко всему относился. Можно было сколько угодно шептаться о том, что международный банковский дом, где он служил, «помог» ему убраться из Англии, он игнорировал этот слух с той же легкостью, что и все прочие слухи, и, несмотря на то, что деловое сообщество Нью-Йорка было не менее щепетильно в отношении профессиональных репутаций, нежели общество в целом относительно моральных стандартов, весь Нью-Йорк толпился в гостиных Бофортов, и вот уже двадцать лет люди произносили: «Сегодня мы у Бофортов» таким же безмятежным тоном, каким сообщали, что собираются в гости к миссис Мэнсон Минготт, да еще и с оттенком удовольствия – в приятном предвкушении горячей запеченной утки и винтажных вин вместо тепловатой «Вдовы Клико» без указания срока выдержки и разогретых ресторанных тефтелей.
Итак, миссис Бофорт, как обычно, появилась в своей ложе перед «Арией с жемчугом», а когда, опять же как обычно, она встала в конце третьего акта, накинула манто на свои великолепные плечи и исчезла, для нью-йоркского света это было сигналом: бал начнется через полчаса.
Ньюйоркцы с гордостью демонстрировали дом Бофорта иностранцам, особенно в вечер бала. Бофорты одними из первых в Нью-Йорке обзавелись собственной красной ковровой дорожкой, которую их собственные лакеи расстилали на ступеньках крыльца под их собственным тентом вместо того, чтобы брать все это напрокат вместе со стульями для бального зала, а также заказывать ужин из ресторана. Они же ввели обычай для дам оставлять верхнюю одежду в холле, вместо того чтобы тащиться наверх в спальню хозяйки и поправлять там прически с помощью щипцов, разогретых на газовой горелке; будто бы Бофорт сказал, что, по его соображениям, у всех подруг его жены должны быть горничные, обязанные заботиться о том, чтобы прическа хозяйки выглядела должным образом, когда дама выезжает из дома.
Кроме того, в планировке особняка с бальной залой изначально было учтено, чтобы гости не протискивались по пути в нее по узким коридорам (как у Чиверсов), а торжественно шествовали через анфиладу гостиных (цвета морской волны, bouton d’or[9] и малиновую), издали созерцая люстры с огромным количеством свечей, отражающиеся в натертом до блеска паркетном полу, а дальше, в глубине, оранжерею, в которой камелии и древовидные папоротники смыкали свою дорогостоящую листву над оттоманками из черного и золотого бамбука.
Ньюланд Арчер, как подобало молодому человеку его положения, прибыл с небольшим опозданием. В вестибюле он отдал свою накидку лакею в шелковых чулках (эти чулки были одной из последних причуд Бофорта), помешкал немного в библиотеке, обитой испанской кожей и обставленной мебелью в стиле Буль с малахитовой инкрустацией, где, непринужденно болтая, несколько мужчин натягивали перчатки для танцев, после чего наконец присоединился к веренице гостей, которых миссис Бофорт встречала на пороге малиновой гостиной.
Арчер невольно нервничал. После спектакля он не заехал в клуб (как обычно делала молодежь), а, воспользовавшись прекрасным вечером, пешком прошелся немного по Пятой авеню, прежде чем направиться к дому Бофортов. Его явно пугало то, что Минготты вознамерились зайти настолько далеко, что по приказу Бабули Минготт могли привезти графиню Оленскую и на бал.
По настрою, царившему в клубной ложе, он понял, насколько серьезной стала бы такая ошибка, и, хотя он был еще более решительно, чем прежде, настроен «довести дело до конца», рыцарского пылу защищать кузину своей невесты у него поубавилось после краткого разговора с ней в Опере.
Пройдя до «лютиковой» гостиной (где Бофорту хватило дерзости повесить вызывавшую много споров картину Бугеро «Любовь окрыляет» с обнаженной натурой), Арчер нашел миссис Уелланд с дочерью, стоявших у входа в бальную залу. За их спинами по паркету уже скользили в танце пары: свет восковых свечей падал на кружащиеся тюлевые юбки, на девичьи головки, украшенные скромными цветами, на эффектные эгретки и драгоценности в прическах молодых замужних дам, на ослепительно-белые, накрахмаленные до хруста манишки и поблескивающие перчатки кавалеров.
Мисс Уелланд, явно готовая присоединиться к танцующим, ждала на пороге с букетом ландышей (других букетов она не признавала), чуть побледневшая, с горевшим простодушным волнением взглядом. Вокруг нее собралась группа молодых людей и девушек, которые всплескивали руками, смеялись и отпускали шутливые замечания, на что стоявшая чуть поодаль миссис Уелланд взирала со снисходительным одобрением. Было очевидно, что мисс Уелланд сообщала о своей помолвке, а ее мать изображала родительское нежелание отпускать дочь, приличествовавшее случаю.
Арчер помедлил с минуту. Ускорить объявление о помолвке было его инициативой, тем не менее, не так хотелось бы ему оповестить о своем счастье. Сделать это посреди шума и суеты переполненной бальной залы означало лишить событие утонченной ауры приватности, которая подобает сердечным делам. Радость его была так бездонна, что вся эта поверхностная рябь не затрагивала ее глубинной сущности, однако ему хотелось, чтобы и поверхность была безупречно гладкой. Отчасти утешало то, что и Мэй Уелланд, как он знал, разделяет его переживания. Поймав ее умоляющий взгляд, он увидел в нем то же, что чувствовал сам: «Помните: мы делаем это потому, что так надо».
Никакой другой призыв не вызвал бы в душе Арчера более непосредственного отклика, и все же ему хотелось, чтобы необходимость их акции была вызвана какой-нибудь возвышенной причиной, а не просто вторжением в их планы бедной Эллен Оленской. Толпа, окружавшая мисс Уелланд с многозначительными улыбками, расступилась, пропуская его, и, приняв свою долю поздравлений, он увлек невесту на середину танцевального круга, положив руку ей на талию.
– Ну, теперь можно и помолчать, – сказал он, с улыбкой глядя в ее ясные глаза и плавно кружа ее под звуки «Голубого Дуная».
Она ничего не ответила. Ее дрожащие губы растянулись в улыбке, но взгляд оставался отрешенным и серьезным, словно бы направленным на некое невыразимое видение.
– Дорогая, – прошептал Арчер, теснее прижимая ее к себе. Ему пришло в голову, что в первых часах после помолвки, пусть даже проведенных посреди шумной бальной залы, есть нечто торжественное и сакраментальное. Как изменится теперь его жизнь рядом с такой душевной чистотой, добротой и сиянием!
Когда танец закончился и они, на правах помолвленной пары, вместе проследовали в оранжерею и уселись за высокой ширмой из папоротников и камелий, Ньюланд прижал к губам ее затянутую в перчатку руку.
– Ну вот, я сделала, как вы просили, – сказала она.
– Да, я не мог ждать, – ответил он с улыбкой и, чуть помолчав, добавил: – Только хотел бы я, чтобы это произошло не на балу.
– Да, я знаю. – Она понимающе посмотрела на него. – Но в конце концов… даже здесь мы как будто наедине, вместе, не правда ли?
– О, милая моя, – навечно! – воскликнул Арчер.
Он не сомневался, что она всегда будет его понимать и всегда найдет правильные слова. Это открытие переполнило чашу его блаженства, и он радостно продолжил:
– Самое ужасное, что я хочу вас поцеловать, но не смею. – Он тайком окинул взглядом оранжерею и, убедившись, что поблизости никого нет, привлек ее к себе, на миг прижавшись губами к ее губам. Чтобы загладить свою дерзость, он повел ее к бамбуковой оттоманке в менее уединенной части оранжереи и, сев рядом, оторвал цветок от ее букета. Она сидела безмолвно, и весь мир, словно залитая солнцем долина, лежал у их ног.
– Вы сообщили моей кузине Эллен? – спросила она наконец замедленно, словно во сне.
Он очнулся и вспомнил, что не выполнил ее просьбу. Какое-то непреодолимое отвращение к тому, чтобы говорить о подобных вещах с чужой женщиной, иностранкой, лишало его дара речи.
– Нет… у меня пока не было возможности, – поспешно солгал он.
– Ах. – Она явно была разочарована, однако предпочла лишь заметить с мягкой настойчивостью: – Но вам придется это сделать, поскольку я тоже ей ничего не сказала и не хочу, чтобы она подумала, что…
– Ну разумеется. Но не лучше ли это сделать вам?
Она поразмыслила.
– Если бы я сделала это в положенное время, то да, но теперь, когда момент упущен, думаю, вы должны объяснить ей, что я попросила вас об этом еще в Опере, до официального оглашения. Иначе она может решить, что я о ней забыла. Видите ли, она – член семьи, но так долго отсутствовала, что стала весьма… чувствительна.
Арчер одарил ее пылким взглядом.
– Дорогая, вы настоящий ангел! Конечно же, я ей все объясню. – Он чуть опасливо посмотрел в сторону переполненного зала. – Но я ее еще не видел. Она здесь?
– Нет, в последний момент она решила не ехать.
– В последний момент? – повторил он, выдав свое удивление тем, что она вообще рассматривала другую возможность.
– Да. Она обожает танцевать, – простодушно ответила Мэй, – но внезапно ей пришло в голову, что ее платье не совсем подходит для бала, хотя нам оно показалось очаровательным. Так что моя тетушка увезла ее домой.
– О, понимаю, – сказал Арчер с показным безразличием. Ничто не нравилось ему в невесте больше, чем ее непреклонная решимость до конца придерживаться ритуала не замечать вокруг ничего «неприятного», которому оба были обучены с детства.
«Ей не хуже моего ясна истинная причина, по которой ее кузина осталась дома, – подумал он, – но я никогда, ни малейшим намеком не дам ей понять, что хоть тень тени лежит на репутации бедной Эллен Оленской».
IVНа следующий после помолвки день полагалось наносить первые ритуальные визиты. Нью-йоркский свет имел точные и жесткие предписания на этот счет, и в соответствии с ними Ньюланд Арчер с матерью и сестрой отправились к миссис Уелланд, после чего они с миссис Уелланд и Мэй поехали к старой миссис Мэнсон Минготт за получением благословения досточтимой прародительницы.
Визит к миссис Мэнсон Минготт всегда был для молодого человека занятным событием. Уже сам ее дом являлся историческим экспонатом, хотя, разумеется, не таким почтенным, как некоторые дома старых родов на Университетской площади и в нижней части Пятой авеню. Те были строго выдержаны в стиле 1830-х – мрачное сочетание ковров с гирляндами махровых роз, палисандровых консолей[10], арочных каминов с черными мраморными полками и необъятных застекленных книжных шкафов красного дерева, – между тем как миссис Минготт, построившая свой дом позднее, полностью отказалась от массивной мебели, модной в ее лучшие годы, и смешала фамильные реликвии Минготтов с фривольной драпировкой времен Второй империи. Она имела обыкновение сидеть у окна в гостиной на первом этаже, словно бы безмятежно наблюдая, как течения жизни и моды подкатывают волнами к ее уединенной обители, и не испытывала нетерпения в их ожидании, ибо оно уравновешивалось уверенностью. Миссис Минготт не сомневалась, что в конце концов временные заборы, булыжные мостовые, одноэтажные салуны, деревянные теплицы на неопрятных огородах, холмы, с которых козы обозревали окрестности, – все это исчезнет под напором особняков, таких же величественных, как ее собственный – а может (как женщина беспристрастная, она допускала и такое), даже еще более величественных, – и что булыжные мостовые, по которым громыхали омнибусы, сменит гладкий асфальт, как, по слухам, уже происходит в Париже. А пока, поскольку все, кого она хотела видеть, приезжали к ней сами (она с такой же легкостью, как Бофорты, собирала полный дом гостей, не добавив ни единого пункта в меню ужина), она совершенно не страдала от своей географической удаленности.
Необъятная масса плоти, обременившая ее в среднем возрасте, затопила ее, как поток лавы – обреченный город, и превратила из пухлой энергичной маленькой женщины с точеными щиколотками и ступнями в нечто столь неправдоподобно громоздкое и внушительное, что ее можно было бы назвать явлением природы. Это бедствие она приняла так же философски, как все прочие свои испытания, и теперь, в весьма преклонных летах, была вознаграждена тем, что, глядя в зеркало, видела массу почти лишенной морщин упругой бело-розовой плоти, из глубины которой, словно ожидая подъема на поверхность, на нее взирало маленькое личико. Лестничный марш гладких подбородков вел к головокружительной глубине белоснежной груди, завуалированной таким же белоснежным муслином, который скрепляла брошь с портретом-миниатюрой покойного мистера Минготта; а вокруг и ниже – лавина перехлестывающих через края объемистого кресла волн черного шелка, на гребне которой, подобно чайкам, покоились крохотные белые ручки.
Бремя плоти давно сделало невозможными для миссис Мэнсон Минготт подъем и спуск по лестнице, и она со свойственным ей пренебрежением правилами перенесла приемные комнаты наверх, а сама (что являлось грубейшим попранием всех нью-йоркских установлений) устроилась на нижнем этаже своего дома так, что, если вы сидели с ней в гостиной у ее любимого окна, вам открывался (дверь всегда оставалась отворенной, а дамастовая портьера разведенной в стороны и подхваченной шнурами) весьма неожиданный вид: спальня с обитой диванной тканью низкой безбрежной кроватью, туалетный столик с легкомысленными кружевными воланами и зеркало в позолоченной раме.
Ее гости бывали смущены и очарованы необычностью такого устройства дома, напоминавшего антуражи из французских романов и располагавшего к фантазиям о чем-то запретном, что простодушному американцу в иных обстоятельствах и в голову бы не пришло. Вот так, должно быть, женщины фривольного поведения жили со своими любовниками в грешные старые времена – в апартаментах, расположенных на одном этаже, со всеми нескромными атрибутами, которые описываются в чужеземных романах. Ньюланда Арчера (который втайне мысленно разыгрывал в спальне миссис Минготт любовные сцены из «Мсье де Камора»[11]) забавляло представлять себе ее беспорочную жизнь в декорациях, которые скорее подошли бы для пьесы об адюльтере, однако он не без восхищения думал: пожелай эта бесстрашная женщина завести любовника, она бы его завела.
Ко всеобщему облегчению, графини Оленской не было в гостиной ее бабушки во время визита помолвленной пары. Миссис Минготт сообщила, что та отправилась на прогулку. В такой солнечный день и в час, когда положено делать покупки, это было нескромно для скомпрометированной дамы. Однако в любом случае это освобождало их от чувства неловкости, которую создало бы ее присутствие, и избавляло от опасения, что смутная тень ее несчастливого прошлого может омрачить их сияющее будущее. Визит прошел успешно, как и ожидалось. Старая миссис Минготт была в восторге от помолвки, которую проницательные родственники давно предвидели и досконально обсудили на семейном совете, а обручальное кольцо с огромным сапфиром в оправе из невидимых лапок вызвало ее безоговорочное восхищение.
– Это новый фасон. Разумеется, он как нельзя лучше демонстрирует достоинства камня, хотя и кажется несколько «оголенным» старомодному глазу, – объяснила миссис Уелланд, искоса бросив извиняющийся взгляд на будущего зятя.
– Старомодный глаз? Надеюсь, ты не имеешь в виду мой, дорогая? Я обожаю всякие новшества, – сказала родоначальница, поднося кольцо к своим маленьким старческим глазам, никогда не искажавшимся стеклами очков. – Очень красиво, – добавила она, возвращая драгоценность, – и очень щедро. В мои времена считалось, что камеи в жемчугах вполне достаточно. А оправой кольцу должна служить рука, не так ли, дорогой мистер Арчер? – она взмахнула своей крохотной ручкой с острыми ноготками и валиками жира, обхватывавшими запястье наподобие браслетов из слоновой кости. – С моих рук когда-то в Риме делал слепок сам великий Ферриджиани. Вам бы тоже следовало заказать слепок с рук Мэй. Дитя мое, не сомневаюсь, он так и сделает. У Мэй рука большая – это все современное увлечение спортом, спорт укрупняет суставы, – зато кожа белая. А когда свадьба? – вдруг перебила она сама себя, уставившись прямо в лицо Арчеру.
– О! – пробормотала миссис Уелланд, а молодой человек, улыбнувшись невесте, ответил:
– Как можно скорее, если только вы меня поддержите, миссис Минготт.
– Мы должны дать им время получше узнать друг друга, мама, – вставила миссис Уелланд, притворно демонстрируя подобающее нежелание ускорять бракосочетание, однако получила отповедь родительницы:
– Узнать друг друга? Вздор! В Нью-Йорке все всегда всех знают. Позволь молодому человеку поступить по-своему, дорогая, незачем ждать, пока вино прокиснет. Пусть поженятся до Великого поста. Я теперь каждую зиму рискую подхватить пневмонию, а мне хочется успеть устроить свадебный завтрак.
Ее заявление было встречено подобающими изъявлениями радостного удивления, благодарности и уверенности в долгом добром здравии матроны. Визит подходил к концу в духе взаимных любезностей, когда дверь открылась, и в комнату, в шляпке и накидке, вошла графиня Оленская в неожиданном сопровождении Джулиуса Бофорта.
Дамы защебетали с родственным расположением, а миссис Минготт протянула гостю ручку, некогда послужившую моделью знаменитому Ферриджиани.
– Ха! Бофорт! Редкая честь! (Она имела иностранную привычку обращаться к мужчинам по фамилии.)
– Благодарю. С удовольствием оказывал бы ее чаще, – отозвался гость в своей дерзко-непринужденной манере. – Обычно я слишком ограничен временем, но сегодня встретил графиню Эллен на Мэдисон-сквер, и она любезно позволила мне проводить ее до дома.
– О! Надеюсь, теперь, с возвращением Эллен, в доме станет веселее! – воскликнула миссис Минготт с неподражаемой бесцеремонностью. – Садитесь, Бофорт, садитесь: пододвиньте себе желтое кресло; раз уж я вас заполучила, давайте посплетничаем. Слыхала, что ваш бал был великолепен. Насколько я понимаю, вы пригласили миссис Лемьюэл Стразерс? Мне было бы любопытно самой увидеть эту женщину.
Она совершенно забыла о своих родственниках, которые потянулись в вестибюль, сопровождаемые Эллен Оленской. Старая миссис Минготт всегда открыто восхищалась Джулиусом Бофортом; у них было нечто общее: склонность к неоспоримому доминированию и пренебрежение условностями. В настоящий момент ей не терпелось узнать, что заставило Бофортов пригласить (как минимум) миссис Лемьюэл Стразерс, вдову короля «гуталиновой империи» Стразерса, которая в предыдущем году вернулась после долгого пребывания в Европе, чтобы теперь осадить маленькую прочную цитадель Нью-Йорка.
– Разумеется, раз вы с Региной ее приняли, вопрос можно считать решенным. Что ж, нам нужны новая кровь и новые деньги, а она, как я слышала, все еще хороша собой, – плотоядно произнесла старая дама.
В вестибюле, пока миссис Уелланд и Мэй надевали свои меха, Арчер заметил, что графиня Оленская смотрит на него с едва заметной вопросительной улыбкой.
– Вы, конечно, уже знаете… о нас с Мэй, – сказал он, отвечая на ее немой вопрос неуверенным смехом. – Я получил от нее нагоняй за то, что не сообщил вам эту новость вчера вечером в Опере: она велела мне сказать вам, что мы объявляем о помолвке, но я не смог, там было слишком много народу.
Улыбка перекочевала из глаз графини Оленской на ее губы, и теперь она выглядела моложе и больше напоминала отчаянную темноволосую Эллен Минготт его детства.
– О, разумеется, знаю, да. И я так рада. Конечно, о таких вещах не сообщают в толпе. – Дамы уже стояли на пороге, и она протянула ему руку. – До свиданья, заезжайте как-нибудь навестить меня, – сказала она, не отводя глаз от Арчера.
В карете, проезжая по Пятой авеню, они оживленно беседовали о миссис Минготт, о ее возрасте, силе духа и удивительных свойствах ее характера. О графине Оленской никто не упомянул, но Арчер знал, что думает миссис Уелланд: «Большая ошибка со стороны Эллен Оленской быть замеченной едва ли не на следующий день по приезде в обществе Джулиуса Бофорта на Пятой авеню при большом скоплении народа», и мысленно добавил от себя: «И она должна понимать, что недавно помолвленному мужчине не следует тратить время на визиты к замужним дамам. Впрочем, в тех кругах, где она вращалась, вероятно, так принято и считается в порядке вещей». И, невзирая на свои космополитические взгляды, коими гордился, он возблагодарил небеса за то, что он – ньюйоркец и собирается связать свою жизнь с девушкой из своей среды.