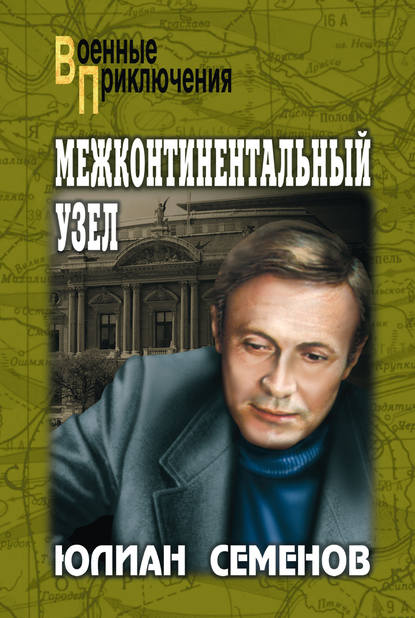Полная версия
Кинжал для левой руки
25 октября 1917 года, 14 часов 35 минут
Пока швертбот тащился по каналу, события в городе обгоняли его со скоростью красногвардейских грузовиков. В час дня («Внучок» еще шел под парусом по Екатерингофке) был взят Мариинский дворец и распущен предпарламент. А в те минуты, когда Грессер, добравшись наконец до Лиговки, привязывал швертбот под Ново-Каменным мостом, на экстренном заседании Петроградского совета Ленин объявил о свершении социалистической революции. Партия века, которую кавторанг еще надеялся выиграть, стремительно близилась к финалу. Одна за другой исчезали с доски его фигуры – Госбанк, Электростанция, тюрьма «Кресты», Николаевское кавалерийское училище, Павловское училище, Владимирское, школа прапорщиков… Но красный «ферзь» еще не был введен в дело. Еще можно было успеть убрать его белой «ладьей». Кто бы обратил внимание на то, как от безлюдных причалов Балтийского завода почти бесшумно оторвалось и скользнуло в Неву щучье тело подводной лодки? А если бы и всполошились, никто и ничем не смог бы помешать удару – до залповой позиции десять минут хода! От торпед, нацеленных кавторангом Грессером, еще не уклонилось ни одно судно…
– Боже, как я рад вас видеть!
Николай Михайлович едва удержался, чтобы не обнять своего механика. Павлов, не привыкший к таким сантиментам обычно сдержанного командира, смущенно хлопотал в прихожей, ища достойное место для грессеровской шинели.
– Да как же вы меня нашли, Николай Михайлович? – конфузился он, не забывая, однако делать сестре отчаянные знаки, которые надо было понимать как призыв к большому кухонному авралу.
– Нет-нет! – заметил Грессер. – Гостевать нам некогда! Чашку чая, бутерброд – и баста!
Однако от тарелки гречневой каши, сдобренной гречишным медом, не отказался. Ел жадно, торопясь, и, вопреки правилам высшего света, говорил о делах:
– Снова, милейший Александр Павлович, нам выпало вместе послужить… Мы оба назначены на «Ерш». Он еще в заводе, но сегодня надо срочно перегнать его на Охту… Приказ морского министра. Собирайтесь пока… Срочно!
– Да я что ж… Я очень рад… Мигом… Дизеля только на «Ерше» паршивые – американские, фирмы «Новый Лондон», втрое слабее, чем нужно. Поставили за неимением проектных, так скорость на семь узлов упала….
– Ничего, ничего, нам на Неве и десяти узлов хватит… Главное, чтоб запустились.
Они шли по Гороховой вдвоем, в открытую, никого не сторонясь и ни от кого не прячась. Да и не было никому дела до двух прохожих в дождевиках, спешивших туда же, куда стремились боевые отряды, а то и просто кучки поблескивающих штыками красногвардейцев. Впереди в ранних сумерках мерк золоченый кортик адмиралтейского шпица. Там лепные гении славы осеняли центральную арку, под которую вскоре вошли эти двое в тяжелых намокших плащах.
25 октября 1917 года, 18 часов 10 минут
На парадном лестничном марше они встретили скорбную процессию. Впереди шел кондуктор Чумыш, держа за собой носилки. С них свисали полы шинели, прикрывавшей с головой чье-то тело. Офицеры Штаба молчаливой гурьбой спускались по ступенькам, понуро потупив взгляды. Грессер увидел Вадима, он шел рядом с Дитрихом.
– Что случилось? – спросил их кавторанг.
Дитрих сделал патетическую мину:
– Не перевелись еще на флоте настоящие герои! Боже, какой был человек!
– Кто? – рявкнул Грессер.
– Подполковник Уманцев. Час назад застрелился в своем кабинете.
Сердце у Грессера тоскливо сжалось. Он хорошо знал этого офицера из отдела морской авиации. Боевой летчик, кавалер золотого георгиевского оружия, он, как и Грессер, служил под Шпицем недавно. Еще вчера он заходил к нему за справочником по кайзеровским субмаринам, и они остроумно пикировались насчет возможностей самолета и подводной лодки в морских войнах будущего и весело сошлись на том, что самолеты в грядущих сражениях будут взлетать с подводных лодок.
Кавторанг не стал спрашивать о причинах рокового шага – в последние дни самоубийственные выстрелы в кабинетах Адмиралтейства раздавались нередко, но Дитрих словоохотливо пояснил, что час назад Уманцев получил из Ораниенбаума, где базировалась Петроградская школа морской авиации, удручающее сообщение. Группа летчиков-инструкторов, которая тайно готовилась к воздушному налету на Смольный и на «Аврору», была кем-то выдана и арестована матросами. Арестованы все семьдесят летчиков-офицеров. Уманцев, как выяснилось из его посмертной записки, был главным разработчиком и вдохновителем операции.
– Вот так уходят от нас лучшие люди! – сакраментально заключил кадровик.
– Так уходят настоящие офицеры! – Кавторанг со значением произнес слово «настоящие» и поспешил отделаться от раздражавшего его лейтенанта. Грессер, в душе считавший себя викингом, недолюбливал немцев вообще и особенно тех, кто воевал против немцев же. Еще он подумал, что, если его удар по «Авроре» сорвется, ему придется последовать примеру подполковника Уманцева.
«К черту, к черту! – отогнал он мрачные мысли. – Покойника встретить – к удаче. Все будет хорошо. И завтра тот же Дитрих будет восклицать в коридорах: “Не перевелись еще на флоте настоящие герои!”»
– Ты обедал? – спросил Грессер Вадима, удрученно шагавшего рядом.
– Нет, папа.
– Ничего. Ужинать будем на «Ерше». На Ерше Ершовиче, у Петра Петровича! – деланно взбодрился Грессер.
Они шли полутемными коридорами. Электричество отключили, и всюду – на коридорных перекрестках, лестничных площадках, в рабочих комнатах – горели свечи и керосиновые лампы. Их красноватый шаткий свет сгущал и без того тревожную атмосферу под сводами Адмиралтейства. В пустом кабинете Уманцева, куда по пути к себе заглянул Грессер, тоже оплывала толстая непогашенная свеча. Из-под тумбы стола торчала черная рукоять упавшего на пол револьвера. Кавторанг подобрал его. По старым флотским поверьям, вещи мертвеца приносили счастье. Он постоял еще немного, отдавая долг памяти. Вот еще один, кто попытался выиграть партию века. Мир праху твоему!
Грессер с болезненным любопытством заглянул в окно. Что видел в свой последний миг Уманцев? С большим трудом он рассмотрел в ночной темени Медного всадника, тщившегося перескочить Неву с крутого камня. За Николаевским мостом вспыхнул огненный зрак «Авроры». Голубоватый луч как бы прощупывал снарядные трассы будущих залпов.
Надо спешить!
День славы близился к концу…
Свой второй – запасной – наган Грессер извлек из служебного сейфа и вручил сыну.
– Стрелять умеешь?
– Папа! – обиженно воскликнул сын.
– Ну, ну… Я пошутил. Держи. Это тебе мой подарок с началом новой флотской жизни… Александр Павлович, у вас оружие с собой?
Павлов обескураженно захлопал себя по карманам:
– Вы знаете… С тех пор как я сдал свое оружие в Кронштадте… По распоряжению судового комитета… С тех пор безоружен. Да и на что механику пистолет?
«Голубчик, – хотел было возразить Грессер. – Сначала вы офицер, а уж потом – механик…» Но укором характера не исправишь. Да и к лучшему, если у Павлова не будет револьвера. Как-то он еще поведет себя, узнав, что «Ерш» потопил «Аврору»… Потопил! Грессер не позволял себе сомневаться в ином исходе дела. Главное, чтобы Павлов привел подводную лодку в движение. А уж убрать какого-нибудь матюху-часового – если, конечно, раскомиссаренная команда сочла нужным его выставить, – он, капитан 2-го ранга Грессер, сможет сам: приказом ли, пулей ли…
Вдруг осветилось все – вспыхнули люстры, рожки н настольные лампы. И тут же под старинными сводами поплыло эхо выстрелов, грохоча, ломаясь, множась. Грессер, а за ним Вадим и Павлов выскочили в коридор, но чей-то истошный вопль заставил их замереть на месте.
– Из кабинетов не выходить! Всем оставаться на местах! Оружие на пол!
В Адмиралтейство вломились матросы с винтовками. Они врывались в святая святых российского флота, где с петровских времен решались судьбы сотен кораблей и сотен тысяч нижних чинов. То кровь ударила в думную адмиральскую голову. Апоплексический удар. Потоп! Генмор шел ко дну, как цусимский броненосец.
Грессер затравленно оглянулся – из глубины коридора уже смотрело вдоль кабинетных дверей тупое рыло «максима». Пулеметчик в бескозырке зычно гаркнул:
– Полундра! Кому говорю! По местам!
Оба офицера и кадет нехотя повиновались. Щека у кавторанга отчаянно дергалась. Кронштадт повторялся в самом худшем варианте – он настиг его вместе с Вадимом. Мысль Грессера работала с удвоенной энергией: за себя и за сына. В соседних кабинетах громко хлопали двери, их обитателей уводили… Куда? Зачем?
Вадим снял бескозырку, чтобы вернуть ленте ее законное положение. Он не хотел быть инкогнито перед лицом опасности.
– Стоп! – остановил его отец. – Достань наган и выводи нас с Александром Павловичем под прицелом. Ты понял? Мы – арестованные, ты – конвойный.
Глаза юноши загорелись. Ну, конечно же, для него начиналась увлекательнейшая игра. Будет о чем рассказать в Корпусе!
Так они вышли в коридор и пошли прочь от пулемета. Их не окликнули, их не остановили… Грессер шел на полшага впереди Павлова, заложив руки за спину. Он выбирал дорогу, ибо только он один знал, что за ближайшим поворотом – ход на боковую лестницу. Сердце гулко отбивало шаги. И кавторанг томительно считал не то удары в груди, не то шаги по ковровой дорожке. «…Двадцать семь, двадцать восемь… Господи, пронеси! Двадцать девять… Если выберемся, закажу молебен… Тридцать… Тридцать один…»
В спину ему смотрело револьверное дульце Вадима, спину Вадима сверлил стальной зрак пулемета.
На сорок втором шаге-ударе кавторанг свернул за угол и… столкнулся с Чумышем.
Процессия сбилась, смешалась.
– С нами, с нами, Зосимыч! – сквозь зубы выдавил Грессер. Но кондуктор с круглыми от страха глазами не мог взять в толк, зачем ему тоже надо шагать с арестованными.
Их суету заметили.
– Эй, с наганом, веди сюда! – распорядился чей-то металлический голос.
Грессер навскидку выстрелил между мраморных колонн, откуда раздался приказ, и кинулся, увлекая всех за собой на боковую лестницу. Он только на секунду оглянулся – бежит ли Вадим? Тот бежал, отмахиваясь зажатой в руке бескозыркой. Вслед за ним поспевал Чумыш. Последним скатывался по ступенькам Павлов.
Дубовая дверь во внутренний дворик была заперта. Грессер ударился в нее всей тяжестью грузного тела и с острой тоской понял – не выбить, не открыть… Сверху громыхала сапогами погоня.
Чумыш ткнулся в дверь цокольного этажа, и она распахнулась. Бросились в нее. Теперь вел кондуктор. Подвальные лабиринты он знал досконально. Ступеньки. Поворот. Еще ступеньки… Железная дверь с корабельными задрайками. В мгновение ока сбили стальные клинья – ржавый визг, затхлая темень, спасительная броня пожарной двери. Задраились. Дышали тяжело и часто. Механик чиркнул о стену спичку, посветил вокруг, и все с замиранием сердца оглядели глухие своды каменного мешка. Повсюду громоздились связки бумаг, дел, папок…
С той стороны рвали задрайки. Громко щелкнула пуля – кто-то сгоряча попробовал прострелить железную дверь. В темень западни доносились голоса:
– Дыму бы подпустить. Враз бы вылезли…
– Бомбу под замок – и вся недолга…
– А пущай сидят! Часового поставить – и что твои «Кресты».
Спичка механика давно погасла, тьма стала еще гуще. Грессер отыскал плечи Вадима и слегка сжал их, прислушиваясь к голосам за дверью. Павлов дышал, как загнанная лошадь.
– Ваше благородие, дайте-ка мне спички, – обратился Чумыш к механику.
– Куда ж ты нас, старый черт, завел?! – одышливо вопросил Павлов.
– Вы меня зазря не чертите! Как завел, так и выведу. Ни одна крыса того не знает, что Чумышу ведомо. Спички дайте! – уже не попросил, а потребовал кондуктор.
Полупустой коробок прогремел в темноте. Слышно было, как Чумыш что-то разгрыз, потом выяснилось – карандаш. Он поджег расщепленную половинку и посветил в дальнем углу их нечаянной камеры. Грессер, Вадим и Павлов нетерпеливо шагнули следом. Кондуктор присел, и все увидели квадратную дубовую крышку с двумя ржавыми кольцами.
– Там, где у нас внутренний двор, раньше канал был, – пояснил Чумыш по ходу дела. – Канал не то при Павле, не то при Александре засыпали. Да не абы как, а с умом.
Кондуктор ухватился за одно кольцо, Грессер – за другое, рванули разом… Разбухшая от сырости крышка сидела прочно. Дернули вчетвером. Увы, люк не поддавался. Такого оборота не ожидал и Чумыш.
– Эк, засела дура! – сокрушенно ругнулся он.
Грессер взял у Вадима револьвер и пятью точными выстрелами расщепил край крышки. Из щели потянул сырой сквозняк. Кавторанг выдернул из ближайшей стопки бумагу, поджег и просунул в дыру. Огонь высветил под крышкой кирпичный пол. Он был неглубоко – в метре, не больше. Кавторанг растеребил одну из связок и приказал всем скручивать листы в жгуты и пропихивать в щель. Работа закипела при свете карандашного огрызка. Когда под крышкой выросла высокая горка скрученной бумаги, Грессер бросил в дыру карандашный огарок, и на кирпичном полу запылал костер. Все с новой энергией принялись бросать в огненную щель скрученную бумагу. Пламя подсушило отсыревшую древесину, и вскоре, поднатужившись, Грессер с механиком вырвали злополучную крышку. Чумыш спрыгнул в люк. Согнувшись в три погибели, он исчез в темени низкого и узкого хода. Грессер последовал за ним. Потом спустился Вадим. Последним, закрыв за собой крышку, пролез механик.
Эти четыреста подземных метров показались им с коломенскую версту, прежде чем они выбрались из водосточного колодца у западного торца Адмиралтейства.
– Ну, Зосимыч, удружил, – обнял кондуктора Грессер. – Век не забуду. Пойдешь ко мне боцманом?
– Эх, Николай Михалыч… С меня теперь боцман, что с пальца гвоздодер. Я уж на вечную зимовку ниже земной ватерлинии собрался…
– Рано крылья опустил, орел портартурский! А сослужи-ка нам последнюю службу – подбрось в Балтийский завод. Только катер сюда подгони. Нам сейчас, сам понимаешь, не резон по набережной фланировать.
– Не сумлевайтесь! Сделаю, как надо.
Чумыш исчез в ночной мороси, переждав броневик с белыми буквами на пулеметной башне – «РСДРП». Боевая машина катила с Сенатской площади в сторону Зимнего…
Из дневника мичмана Демидова. Борт «Авроры»:«Как ни был мертв мой сон, я очнулся, повинуясь внутреннему толчку, что всегда будил меня за полчаса до подъема флага. Умывшись и растеревшись, вышел на верхнюю палубу. Утро серое, ветреное, холодное. Ветер сносил дымы из труб Зимнего на норд-вест, значит, дул с юго-востока. Чугунная громада Николаевского моста нависала над Невой совсем близко от нас. На мосту вершилось обычное движение, лишь изредка мелькали красные повязки на рукавах солдатских шинелей и матросских бушлатов.
На набережных толпился народ, разглядывая “Аврору”. Она стояла посреди Невы, точно новый дворец с высокой колоннадой труб, выросший за ночь на виду города. У стенки завода крейсер сливался с цеховыми постройками и был малоприметен.
Я поднялся на сигнальный мостик и навел бинокль на толпу. Надин среди глазеющей публики не было. Тогда я навел линзы на ее окно. Оно приблизилось, но угол зрения был неудачен – стекла тускло отливали.
Неужели еще вчера я был по ту сторону этой стеклянной границы и губы мои пылали на ее губах? От этой мысли бинокль в руках слегка задрожал.
Ее окно смотрело на “Аврору”… То была каменная оправа нашей жгучей тайны. Прямоугольный колодец, в застекленной непроглядной глубине которого жила моя прекрасная сирена… Видит ли она, какое величественное прощание подарила нам судьба?
Я опустил бинокль и взял контрольные пеленги на башню Кунсткамеры и шпиц Адмиралтейства. “Аврора” стояла на якоре незыблемо. Я записал пеленги в журнал. Эти простые служебные дела привели мои мысли в трезвый порядок. К черту сирен и наяд! Есть милая, обожаемая, земная, грешная, сладостная Надин. Как все преобразилось со вчерашнего дня! Как обновилась вся жизнь! Каким глубоким таинственным смыслом наполнилась каждая мелочь бытия, каждый пустяк уже примелькавшейся корабельной жизни! Все, все, все, на что упадет взгляд, напоминает ее, говорит о ней, обещает ее… Вот вьются ленты у сигнальщика на бескозырке, а я уж думаю, как хороша была лента черного репса в ее волосах. Вот тренькнул машинный телеграф, точь-в-точь как звонок за ее дверью… Сколько томительного сладостного ожидания разлито вокруг… С завистью смотрю я на корабельный прожектор: луч его так легко может проникнуть в ее окно, упасть к ее ногам, лечь на руки, объять ее…
Вчера она стала моей. Теперь я обязан по долгу офицерской чести предложить ей руку, сделать официальное предложение… Да что по долгу! По давней заветной и безнадежной доселе мечте я могу просить Надин выйти за меня замуж. Пусть до лейтенантского чина мне трубить еще три года, пусть нет у меня этих злосчастных пяти тысяч[8]… Николай Михайлович Грессер настоящий боевой моряк, и он, не впадая в предрассудки, конечно же, отдаст дочь за настоящего боевого моряка, пусть пока и в невеликих чинах. К тому же революция наверняка упразднит «мичманский ценз», и нам ничто не помешает соединить руки…
– Надолго мы тут стали, господин мичман? – спросил сигнальщик, подставив ветру спину.
– Думаю, что нет. Прибудет высокое начальство, посмотрит, как отремонтирован крейсер, и двинем в Гельсингфорс.
Я и не подозревал, как глубоко заблуждался. Вместо представителя Главного морского штаба на корабль прибыл Антонов-Овсеенко, член Военно-Революционного комитета. Что он говорил команде, я узнал лишь много позже – понаслышке, так как сразу же после обеда свинцовый сон – сказались все полубессонные ночи – не дал мне выбраться из койки.
Сколь сладко просыпаться в броне и железе с именем любимой. О, Надин!
Перед глазами замелькали вспышки сокровенных видений».
Далее арабской вязью:
«…Шемизетка брошена на китель. Длинная черная юбка соскользнула с подлокотника кресла, точно живая. Туфелька улетела под фортепиано…
Придя в себя, я ужаснулся разорению, в которое привел столь сложные, столь красиво подобранные, разглаженные, затянутые наряды моего божества, ее уложенные волосы. Я ощутил себя вандалом, разрушившим прекрасную статую, язычником, сорвавшим в порыве безумия покровы со своего кумира и застывшего в ожидании неминуемого возмездия. То было святотатство художника, под чьей кистью Мадонна вдруг обратилась в “обнаженную маху”… Но вместо праведного гнева на меня обрушились неистовые милости поверженной богини…
Мой крестик качался над ней на цепочке…
…Потом в гостиной она взяла меня за руки:
– Я прошу вас обещать мне… Нет, лучше поклянитесь! Клянитесь мне, что вы никогда не посмеете подумать дурно о том, что было сейчас… Никогда не поставите мне этого в укор…
– Да господи! Как в голову вам могло такое прийти?! Да я… Я клянусь самым святым, что у меня есть, что буду боготворить этот день и вас всю жизнь, сколько бы мне ее ни досталось. Клянусь флагом своего корабля… Клянусь спасением своим в бою… Если выпадет смерть медленная, томительная, – вы, память о вас, об этом дне будут моим утешением.
Она убежала в комнаты и вернулась оттуда, неся в ладонях маленький образок из очень темного серебра.
– Вот… Он хранил на морях моего деда. Он счастливый. Бабушка сказала: “Надень его на того, кого хочешь спасти”. Теперь он ваш… – Она застегнула мне на шее цепочку, поцеловала в лоб и губы и легко подтолкнула к двери. – А теперь ступайте, ступайте… Скоро придут наши. Вас никто не должен видеть сейчас. И запомните мой телефон в Гельсингфорсе. Он очень простой: девятнадцать-семнадцать. Все вместе, как нынешний год».
25 октября 1917 года, 19 часов 00 минут
Склянки на «Авроре» отбили семь часов вечера, когда от Адмиралтейской набережной отвалил черный катерок с пассажирами и рулевым.
– Скажи на милость, службу не забыли! – восхитился кондуктор, расслышав сквозь клекот мотора медные удары авроровской рынды. Грессер с тревогой вглядывался в приближающиеся надстройки крейсера: что, если прикажут встать к борту? Высокие трубы корабля вырастали над мостом с каждой секундой. Вот и выгнутый нос с черной серьгой якоря (второй отдан), клепаный борт с тремя ярусами иллюминаторов, отваленный выстрел[9] со шлюпкой на привязи…
На заре туманной юности корабельный гардемарин Грессер проходил на «Авроре» морскую практику. Вон иллюминатор его кубрика. В кожухе первой трубы отогревался он после вахт на сигнальном мостике. А сколько раз банил баковое орудие, за которым был закреплен в гардемаринской прислуге!
Однажды летней тихой ночью, когда крейсер резал заштилевшее море, Грессер выбрался из душного кубрика наверх. Никем не замеченный, он пробрался на бак, за шпили, и лег там на теплое дерево палубы. Он лежал на спине – головой к форштевню, раскинув руки в стороны. Лицо его нависало над росзвездями черной бездны. Корабль чуть покачивался, и вместе с ним качалась ночная Вселенная. И тогда у гардемарина захватило дух от созерцания этой космической шири. Он плыл один между морем и звездами неведомо куда – в вечность и бесконечность. Потом он нигде не испытывал такого величественного чувства, и он всегда благодарил судьбу и «Аврору» за тот звездный миг в его жизни.
То была злая ирония судьбы, что именно ему предстояло сегодня уничтожить «Аврору». «Уж лучше бы ты потонула в Цусиме», – не без горечи пожелал кавторанг, глядя, как створятся за кормой катера мачты и трубы крейсера.
– Пронесло!
Не окликнули, не осветили, не выстрелили. Чумыш держал курс на огни Балтийского завода.
Землянухин сидел в боевой рубке и приканчивал вторую селедку, заедая ее ржаной краюхой. Он хотел было спуститься за чайником, который грелся на электрокамбузе, как вдруг услышал глухое фырканье мотора. Насторожился. Выглянул из рубочного люка и подвинул поближе винтовку.
Маленький катер ткнулся в лодочный корпус, и один из пассажиров – высокий, в офицерской шинели – зычно крикнул:
– Вахта! Прими концы!
Землянухин вылез из люка по грудь, выпростал винтовку, клацнул затвором.
– Стой! Кто идет?
– Ага, есть живая душа! – обрадовался офицер. – А ну помоги вылезти!
– Кто идет, спрашиваю! – рассердился матрос на слишком уверенного в себе незнакомца.
– Я новый командир «Ерша». Капитан второго ранга Грессер, – громко представился офицер. – Со мной вновь назначенные механик, боцман и юнга. Кто старший на борту?
– Я старший… Матрос первой статьи Землянухин.
– Землянухин, ты? – радостно удивился кавторанг. – Не узнал меня, что ли?
– Узнал, как не узнать… – протянул матрос.
– «Тигрицу» нашу помнишь?
– Все помню, ваше выск… Тьфу! Господин кавторанг. Ничего не забыл.
– Так прими концы! – властно потребовал Грессер.
– Часовой есть лицо неприкосновенное, – важно напомнил Землянухин. – Все начальство в екипаже. Туда и езжайте.
– О, ч-черт! Какое, к лешему, начальство, если я командир? Вот мое предписание.
– Не могу знать. Председатель судкома меня ставил. Председатель и снимет. Бумажку ему покажьте.
– Друг мой, не придуряйся шлангом! – начал злиться кавторанг, чувствуя, как снова задергалась щека. – Сам председатель судкома боцманмат Митрофанов наложил свою резолюцию.
– У вас резолюция, а у меня революция! – парировал Землянухин, уличив про себя командира в неточности: не Митрофанов – Митрохин. – Стой! – осадил он кавторанга, решившего взять скат лодочного борта приступом. – Стой! Стрелять буду!
Но первым выстрелил Грессер. Пуля цвенькнула над ухом, и Землянухин нырнул вниз, захлопнув крышку люка и задраив ее наглухо.
Пуля вторая и третья отрикошетили от стальной горловины. Кавторанг еще не мог поверить, что блестящая комбинация «белая ладья берет красного ферзя» рухнула от того, что некая пешка сделала непредусмотренный ход и навсегда ускользнула из-под удара.
По обе стороны рубки «Ерша» зажглись красно-зеленые ходовые огни – сигнал бедствия. Их включил Землянухин, призывая к себе на помощь.
Грессер, Чумыш, Вадим, Павлов столпились вокруг задраенного люка. Час назад они точно так же стояли перед дубовой крышкой лаза в надежде на выход. В надежде на вход им было отказано – входной люк незыблемо перекрывал массивный литой кругляк из красной меди.
Щека Грессера задергалась вдруг быстро-быстро, он издал странный горловой звук и принялся яростно колотить рукоятью нагана крышку рубочного люка.
– Открой, сволочь, открой! – рыдал он, отбиваясь от рук Чумыша и Павлова, пытавшихся оттащить его прочь от рубки. С помощью Вадима наконец удалось это сделать. Грессер все же вырвался, сумев при этом не расстаться с оружием. Он отскочил к носовой пушке, ударился спиной о казенник, и этот удар привел его в чувство. Он вскинул наган, тщательно прицелился и расстрелял сначала левый красный фонарь, затем – правый зеленый. Брызнули осколки стекол, ходовые огни погасли.