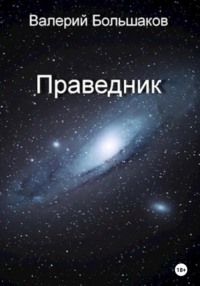Полная версия
Целитель. Спасти СССР!
В эти приятные мгновенья я очень четко ощущал девушку. Не всегда это у меня получалось, но порой я верно улавливал психосущность человека – узнавал его характер, склонности, настрой. Наверное, это умение как-то пересекалось с моим целительством – я же не вижу «пациента» насквозь, не просвечиваю его, как рентгеном. Просто ощущаю в чужом нутре какую-то неправильность. Накладываю руки – и сразу понятно делается, что там не в порядке.
Так и с душой человечьей. Хоть и редко, но мне удавалось поставить точный диагноз: жадность, черствость, себялюбие.
А вот мои нечаянные подружки оказались совершенно здоровы. Обе испытывали ко мне не только благодарность, но и симпатию. Может, даже нечто большее, чем приязнь, но тут я талантливо увиливал от желанных предположений…
Правда, в Рожковой чувствовалась тревога и печаль. А потом я ощутил в девушке позыв к раскаянью.
– Тебя что-то беспокоит. – Я легонько притянул Лену к себе. – Что? Ты боишься Грицая? Не надо его бояться. Если до него еще не дошло, я проведу с ним воспитательную работу!
Девушка вздохнула, словно испытывая затруднение.
– Я не боюсь. Просто…
– Расскажи ему, – подала голос Наташа. Она сидела на стуле, и развлекалась тем, что болтала ногами, стараясь удержать шлепанцы на кончиках пальцев.
– Боюсь…
– Чистосердечное признание облегчит твою вину, – бодро пошутил я.
– В общем… – промямлила Рожкова, рассеянно поглаживая мои плечи. – Понимаешь…
– Мы из будущего! – решительно заявила Томина, поджимая ноги. – Обе! Нас специально заслали в это время, чтобы встретиться с тобой.
– Со мной? – Я откровенно «туплю». Такое впечатление, что мой солидный Ай-Кью полностью обнулился.
– Наш институт долго искал такого, как ты, – попыталась объяснить Лена.
– Какого – такого? – я продолжаю «плыть», как боксер после хорошего нокдауна.
– Целителя! – раскинула руки Томина. Верхняя пуговка у нее расстегнулась, открывая ложбинку между грудей. – Чтобы ты смог отправиться в 1974 год, войти в доверие к членам ЦК КПСС – они ж там все старые и больные! – и как-то воздействовать на них, побуждать, подталкивать к правильному выбору! Сам знаешь, у пациента возникают особые отношения с врачом, когда происходит исцеление, а вместо болей и недомоганий ощущаешь здоровье. Советская эпоха – самая великая в истории России, и ей нельзя было кончаться! Ну, никак!
Я вдруг поверил.
– А почему именно в том году? – спросил, лишь бы спросить, потому, как с трудом улавливал смысл сказанного. Все настолько выбивалось из повседневной плоскости, что, чудилось, мир качался в опасной прецессии, выходя из равновесия, как плохо раскрученная юла.
– Чем позже, тем сложнее будет начать перестройку, – сказала Наташа назидательно. – Кстати, этот термин придумал Андропов, а вовсе не Горбачев.
Немного задержавшись с вопросом, я все-таки задал его:
– И… как я туда попаду? На машине времени?
В эти тягучие мгновенья я будто раздвоился: одна моя половинка орала: «Наконец-то! Ура! Сбыча мечт!», а другая нудила, требуя карты на стол, да все присматривалась подозрительно, прислушивалась, принюхивалась… Сердце тарахтело, а в голове полный кавардак.
– Машина времени? – попыталась наморщить лоб Томина, но складочек не вышло. – Так только журналисты говорят!
– Тут все засекречено, – вмешалась Рожкова. – Единственное, что мы тебе можем рассказать, это… В общем, человек может переместиться из одного времени в другое, но проживет там три-четыре секунды, максимум, после чего перейдет в доквантовое состояние – от эманации хронокорпускул распадется любой иновременной объект.
– А вы тогда как тут объявились? – прищурился я.
– А это не мы… – посмурнела Наташа.
– В смысле – не вы? – нахмурился я, не сводя глаз с волнующего выреза на халатике.
– Ну-у…– тянет Томина. – Сначала в это время запустили несколько темпоральных спутников, целую серию. Они тут все разведали, а уже потом переместилась капсула с нами…
– Капсула вышла из субвремени неподалеку от этого дома, в скверике, где на лавочке сидели две девушки-студентки, Алла и Ксеня. Они стали нашими реципиентками… – подхватила эстафету Лена. – Кстати, ты сейчас пялишься вовсе не на Наташу, а на Аллу Вишневскую.
Я опять зависаю. Самое поразительное заключалось в том, что я ни секундочки не сомневался в правдивости девчонок. Меня обмануть нельзя, я сразу почувствую ложь. Но то, чему приходилось внимать, выглядело невообразимым – просто запредельно.
– Да-а… – нарочито уныло сказала Томина, поправляя халатик, чтобы мне лучше было видно. – У меня они побольше…
– Да ты вообще дылдой была! – фыркнула Лена.
– Была…
– Это… как? – выдавил я.
– Ментальный перенос! – охотно разъяснила Наташа. – Когда капсула раскрылась, сработал транслятор и скачал мое сознание в тело Аллы, а Ленкино – в Ксению.
– Страшно так… – передернула плечами Лена. – Прямо жутко! Я закричала, а потом замерцало что-то перед глазами – и я увидела себя, пищавшую от испуга. А потом и я, и Наташка, и капсула – всё осыпалось пыльцой…
Медленно переваривая трудно представимую информацию, выговорил:
– И в кого же… переселюсь я?
– В себя! – быстро сказала Лена. – В юного, смазливого мальчишечку – Мишу Гарина. Тем летом тебе сколько было? Шестнадцать?
– Почти, – растерянно проговорил я. – У меня день рождения – тридцатого сентября…
Надвигалось что-то неумолимое и грозное, разом пугающее и влекущее. Среди моих многочисленных мечтаний всегда выделялись два. Я очень-преочень, как внучка говаривала, хотел исправить допущенные мною огрехи, стыдные, срамные, вспоминая о которых, морщишься даже десятилетия спустя. Вернуться в прошлое – и проделать «работу над ошибками»!
И жило во мне еще одно чаяние, с каждым годом все более сильное – как-то повлиять на историю, как угодно, лишь бы вытянуть страну из либерального, мещанского, жвачного болота, вывернуть с обочины обратно на «путь к коммунизму».
И тут приходят две девчонки, и говорят: а давай, спасем СССР! Давай, не будем доводить до «застоя»! Не допустим, чтобы лилипуты-демократишки, все эти горбачевы-ельцины-собчаки-гайдары, запутали великана – советский народ!
И вот, по Ленкиному велению, по Наташкиному хотению…
Исполнятся оба моих желания.
Казалось бы, радоваться впору, вопить «ура» и скакать, как майданутый, но нет – страх стреноживает. Это ж какую махину надо развернуть…
– И когда мне… туда? – выдавил я.
– Сегодня, – сказала Лена стеклянным голосом, и посмотрела на часы, тикающие на стене. – Наташка уже послала вызов… Помнишь, она позавчера с буком вышла? Вот тогда. Ровно через четыре часа материализуется капсула из Института Времени. Ты займешь в ней место – и окажешься в августе 74-го. Двадцать девятое число. Помнишь?
– Да, – киваю я замедленно. – Я тогда вернулся с ударной комсомольской – боец стройотряда «Вымпел». В нем когда-то папа вкалывал… Это случится прямо на улице?
– Нет-нет! – заспешила Рожкова. – Уже в подъезде твоего дома, на лестничной площадке. Сосчитаешь до четырех, и… И всё…
Голос у Лены стал повыше, и она заплакала.
– Не плачь, – всполошился я. – Ты чего, Леночка?
– Я не хочу, чтобы ты уходил! – с надрывом сказала Рожкова. – Не хочу! Я хочу быть с тобой!
Она приткнулась ко мне, продолжая хлюпать, а я успокаивал ее и гладил по спинке. Признаться, испытывая стыд, потому как мне было хорошо.
Наташа смотрела на нас и улыбалась. Потом расстегнула сразу две пуговки, зараза, и приняла задумчивый вид.
– Всё, всё… – проговорила Лена, быстро вытирая слезы ладонью. – Просто обидно стало: встретились – и сразу расстаемся! А я, дура, столько времени потеряла зря… – Рожкова судорожно вздохнула, как дитя после долгого плача. – Я сейчас приму душик, приведу себя в порядок и мы с тобой обсудим план действий на будущее.
– На прошлое! – хихикнула Наташа.
Четверг, 22 октября 2018 года, первый час ночи
Щёлково, улица Парковая
Ровно в полночь посреди комнаты распух светящийся шар, переливавшийся сиреневым, и растаял, явив некий хитроумный параллелепипед, сложенный из множества фигур, как кубик Рубика.
Наташка тут же деловито разложила «кубик», как трансформер, на панели и консоли пульта. Уселась перед ним на стул, длинные тонкие пальцы запорхали по клавишам да прочим сенсорам. Пульт отозвался вереницами огоньков, вспыхивавшими экранами и разноголосыми писками.
Я нервно сглотнул. Почему-то все попаданцы, возвращаясь в молодость или вообще в детство, плющатся от радости. А разве прошлое, став вдруг настоящим, не грузит, не напрягает?
Вот, каково мне будет встретить отца, живого и здорового? Мне, хоронившему его, слышавшему глухие удары земли о гроб, когда удалые, вечно пьяные могильщики энергично работали лопатами?
Правда, батя никогда не снился мне мертвым, только живым. Ото всех этих дурацких страшилок насчет покойников в сновидениях меня передергивает – кто думает обо всей этой ерунде, тот и видит ее по ночам. Приятных им снов – с зомби в главных ролях.
С матерью, слава богу, все в порядке, она жива и здорова – там, в покинутом Владивостоке. Поселилась вместе с моей сестрой, и мы, в основном, перезваниваемся, видимся очень редко. Как-то, вот, разошлись по жизни, а в 74-м маме всего тридцать пять, и все еще можно поправить. Покачал головой в такт рваным мыслям:
«Удивительно… Когда меня призвали «в ряды», я скучал по своим – и по папе с мамой, и даже по Насте, а потом… Нет, привязанность не сменилась отчужденностью, но и дружбы особой не осталось. Да и было ли чему оставаться?..»
Я вовсе не зря сказал, что Даша – единственный человек, родной для меня. Как-то, вот, распался наш гаринский «клан». Или я просто перенес понятие «семья» на нас с Дашей, а остальных вытеснил на обочину сознания?
Думы постепенно замедляли свое кружение. Я смотрел на Томину, переводил взгляд на Рожкову – любовался на прощание.
22 октября 2018 года полностью переворачивало всю мою жизнь, оканчивало ее здесь – и начинало с чистого листа там, в туманном прошлом. Я верил – и не верил, надеялся – и падал духом, принимая девичью затею за наваждение.
– Всё помнишь? – спросила Лена, перебирая распечатки – точечная информация по 1974-му, совершенно секретная тогда, а ныне взятая в открытом доступе.
Отмирая, повернулся к ней.
– Я ничего не забываю.
– Может, ты еще вернешься… – с надеждой пробормотала Рожкова. – В этот самый день, только часиков в десять-одиннадцать… М-м? Наташка говорила тебе про наш юбилей? Сегодня ровно пятьдесят дней, как мы здесь, а раньше нас не было. И этот дом… Он старый, его еще в 68-м выстроили. Когда изменится будущее, дом так и будет стоять здесь…
– Обязательно загляну, – пообещал я.
Лена грустно вздохнула.
– Забудешь… Я же знаю, что ты сделаешь в 82-м году – поедешь знакомиться со своей Дашей…
– Я ничего не забываю, Лена, – серьезно сказал я. – И не забуду – ни Дашу, ни тебя, ни Наташу.
Рожкова тихонько всхлипнула, и потянулась ко мне губами.
– Хватит лизаться, – сказала Томина с дурашливым осуждением. – Готовность раз!
– Да мы только начали!
Леночка целовалась самозабвенно, а тут и Наташка подоспела, и я от их гладких ручек почувствовал легкий туман в голове. В этот момент донесся сигнал с ноутбука, а пульт-трансформер стал оплывать, проседать, как сугроб весною. Тяжелыми клубами вспухла тускло-серебристая пыльца, и словно растворилась в воздухе, оставив по себе нездешний запах ёдкой горечи.
– Пора! – выдохнула Лена.
Я замер неуверенно, и в то же мгновенье посреди комнаты соткался тускло сияющий сиреневый шар. Он почти касался стен переливчатыми боками, отбрасывая на потолок шатающиеся тени, а когда трепещущий свет утух, над полом осталась висеть прозрачная сфера с большим креслом и пультиком внутри. Перепонка люка лопнула, расходясь, как диафрагма, и я непослушными ногами двинулся к Т-капсуле. Шел, будто под водой, преодолевая сопротивление страхов, комплексов, сомнений.
Капсула продолжала висеть, и даже не качнулась, не просела ничуть, когда я взгромоздил свои девяносто кило на мякоть сиденья. Перепонка тут же заросла, отрезая звуки.
Гляжу в крайний раз на Рожкову, изо всех сил улыбавшуюся мне сквозь слезы, на Томину, махавшую рукой – и все пропадает.
На сорок четыре года.
Глава 2.
Четверг, 29 августа 1974 года, вечер
Первомайск, улица Дзержинского
Капсула проявилась прямо над лестничной площадкой, выложенной дешевой керамической плиткой, рядом с узенькими дверцами лифта. Меня царапнуло глупое беспокойство – а вдруг соседи выглянут? Но свидетелем моего переноса в прошлое оказался всего один человек – я сам, только в отрочестве.
Юнец стоял на ступеньках – в потертой «целинке», прожаренный солнцем, короткие русые волосы выгорели до цвета соломы, пальцы сжимают рюкзачок, похожий на торбу…
«Миша Гарин сияет от счастья и пыжится от гордости – он два месяца подряд «пахал» со стройотрядовцами, заработав пятьсот рублей! Миша окреп, закалился – и везет подарки своим родным… Вот только маму обнять он постесняется, дурачок, а чтоб сестренку чмокнуть… Да ему такое даже в голову не придет! О, смотрит на дядьку в пузыре – и ни бум-бум…»
Все эти мысли проносились в моей бедной голове, как заполошные птицы, влетевшие в комнату и не знающие, как им выбраться из ловушки, а на счет «четыре» весь видимый мир заколыхался, исчезая, забрезжил в стробоскопическом мельтешеньи.
Меня охватил томительный страх, как во сне, когда мучительно долго падаешь, и вдруг зрение вернулось, делаясь куда более четким. Я увидел себя – потрепанного жизнью мужика в возрасте, бледного, заключенного в бликующую сферу, а в следующее мгновенье и Михаил Петрович Гарин, и Т-капсула поплыли, расползаясь на пиксели, сеясь серой искрящейся пылью.
– Мир праху моему, – шепчу я, не узнавая собственный голос.
Я оглядел себя, примечая стрелки на брюках, наведенные неизвестным на Западе способом – укладкой штанов под матрас на откидной полке – и стоптанные финские туфли. Помню, мама очень гордилась, что смогла их достать. Вытянул руки, повертел перед глазами, зачем-то дотянулся указательным пальцем до носа, облизал губы – и ощутил легкую дурноту. Меня не стало.
Меня, чей шестидесятилетний юбилей я отметил совсем недавно, больше нет! Теперь я мальчишка…
Двигаясь «на автомате», одолеваю последние ступени и останавливаюсь под дверью – полузнакомой, отделанной лакированным, уже потертым деревом, с двумя бронзовыми цифирками – «55». Наша квартира. С нее начинается родина…
Пустота и звон занимали голову, лишь то и дело всплывала дурацкая кричалка одного модного парикмахера: «Звезда в шоке!»
Легко было мечтать, представляя, как ты возвращаешься в детство, да еще с полным набором опыта и знаний, накопленных за долгую жизнь! А в реале – дрожь пробирает, колотит всего, прямо…
Подняв руку, я замер, держа палец у кнопки звонка, сглотнул всухую, и нажал.
– Я открою! – глухо, едва слышно донесся настин голос. Улыбка будто сама по себе раздвинула мои губы. Сейчас… то есть, в будущем, моя сестра – худосочная дама в возрасте, а тут…
Замок щелкает, дверь приоткрывается – и распахивается настежь. На пороге стоит сестренка – вытянувшаяся за лето, стройная и очень миленькая.
– Мишка приехал! – радостно запищала Настя.
Порываясь кинуться ко мне, но не решаясь, она заняла руки тем, что захлопала в ладоши. А я обнимаю Настьку и целую, замечая мельком, как ее глаза распахиваются в глубочайшем изумлении.
Не выдержав, девчонка заплакала. Улыбалась мне, кивала, гладила по «целинке» ладошками, а слезы так и катились по щекам. Я чмокнул сестричку прицельно – в ее вздрагивавшие губки, и сказал:
– Привет, Настенька!
– Привет… – улыбаясь смущенно, сестричка вытерла ладонью глаза.
Торопливо зашаркали тапки. В прихожую вышла мама.
– Мишечка вернулся! – всплеснула она руками.
– Привет! – говорю, и обнимаю ее.
Поразительно… Моя мама – молодая и красивая женщина. Натуральная блондинка, и очень даже ничего. Настя в нее пошла – ей четырнадцати нет, а маечку будто два апельсина оттягивают…
– А папа где? – спросил я, позволяя себя тискать и тормошить.
– Скоро должен придти, у него ж банный день сегодня!
Мамулька снова ласково прижала меня к переднику, а я притянул к себе Настю. Я вас приучу к родственным отношениям…
Скинув туфли, прошествовал в комнату, сопровождаемый мамой и сестрой – они держали меня за руки, словно вели под конвоем.
– Вырос как… – умилялась мама. – Совсем большой стал…
А я чувствовал ошеломление и странную робость – чудилось, топну сильнее или крикну, и все вокруг рассеется, как пленительный мираж. Оглушенный реальностью, я оглядывался, будто в первый раз. Всё, как тогда…
Золотистые шторы и диван, застеленный расшитой кошмой – папа ее из Монголии привез. Почти антикварная этажерка с фигурными столбиками, забитая книгами «про шпионов» – дедушкина коллекция. Любимая мамина игрушка – румынский гарнитур. Большая картина в простенькой раме, изображавшая берег пруда, угол избушки в тени зарослей, и пару коров, забредших в воду. Может, и не шедевр, зато подлинник.
А вот бабушкин комод – монументальный постамент для цветного телевизора «Радуга-703», единственного в нашем доме. Помню, как мальчишки во дворе задавали мне один и тот же вопрос: «Это правда, что у вас телик разными цветами показывает?», а соседи со всего подъезда ходили к нам концерты смотреть или парады. Товарищи…
– Ну, как ты? – спросила мама заботливо. – Сильно устал? Не заездили там тебя? Не обижали?
– Да нормально все, – заверил я ее, и полез в левый карман. Помнил, что нарочно отложил туда двести рублей. – Вот! Мой скромный вклад.
– Ого! – воскликнула Настя.
Разумеется, мама снова меня обняла и поцеловала, но я был не против.
– Мам, у меня еще триста рублей осталось. Хочу к школе брюки хорошие купить, туфли, там… Можно, я в Одессу съезжу?
– Работничек ты мой! – проворковала мама, умиляясь моей житейской состоятельности. – Конечно, съезди! Сюда-то как добрался?
– Да нормально… Мы в Москве пересадку делали. На Курском взял билет до Харькова, а оттуда – на Помошную.2
Успокоенный насчет поездки, я торжественно выложил килограмма три московских конфет, вызвав буйный восторг Насти, достал блок лезвий «Жиллет» за десять рублей – и преподнес матери флакончик духов «Мадам Роша».
– Это тебе. С днем рождения!
– О-о! – восхитилась мама, принюхиваясь. – Настоящие французские! А мы тебя так ждали! Думали, что как раз успеешь…
– Да я б успел, но не бросать же всех, не по-людски как-то.
– Ну, да… Ну, да…
Мама смочила палец в капельке парфюма, и провела по шее.
– Шармант!3 – ухмыльнулась Настя.
– Что б вы понимали в роскоши, мадмуазель, – надменно сказала мама, и тут же сменила тон: – Ты, наверное, голодный?
– Потерплю, – махнул я рукой. – Папу лучше дождусь.
– Ну, ладно, Мишечка, отдыхай! – оживленная и радостная, мама растрепала мне волосы, и удалилась на кухню.
– А у нас котлеты на ужин! – радостно доложила Настя.
– С толчонкой! – донесся мамин голос.
– И с огурчиками! – продолжала искушать сестричка. – Малосольными!
– Хочешь, чтобы я слюной захлебнулся, да?
Хохоча, Настя ускакала к матери, а я подхватил рюкзачок, и поплелся в свою комнату. Устал. Да и перенервничал.
Почти весь пол в моей «берлоге» укрывал самодельный ковер – огромное соцветие роз на черном фоне. Говорят, его наша родственница ткала, баба Феня.
У стены стояло ложе – старый диван. Тоже, кстати, ручной работы – дядя Вова собрал его, когда мне было лет пять…
Я, как кот, обнюхивался, заново привыкая к полузабытому житию, перепутанному в моих снах. Нужно, чтобы «тихо пришли в равновесье зыбкого сердца весы»…
Подойдя к столу, перебрал стопку новеньких учебников для 9-го класса, пахнущих типографской краской, выглянул в окно. Всё то же самое, как помнилось – широкая улица, обсаженная тополями, редкие машины, двухэтажный гастроном на углу.
На подоконнике лежала моя тогдашняя (теперешняя!) гордость – фирменная сумка «Эр Франс». В нее я кидал полотенце и плавки, когда ходил в секцию. Молодец – верно рассудил, что вырабатывать «треугольную» фигуру пловца, широкоплечего и узкобедрого красавца – это «самое то» для нескладного подростка. Ну, в плечах я пока что не шибко раздался, но мясцом оброс. Хотя понятие «мускулистый» к моему телу подходило не слишком, а вот «жилистый» – это про меня.
Вспомнил, каким сам себя увидел на площадке. Уши более-менее нормальные, и нос, только губы подкачали – пухлые. Девчонкам, может, и нравятся, так ведь никакой суровости с брутальностью.
«Зато линия подбородка – жесткая, – повысил я самооценку, – и взгляд твердый!»
Над организмом еще работать и работать – худой он у меня слишком, да и слабоват. Ну, бассейн я пропускать не намерен, сделаю себя. А вот во что этот организм упаковать…
«Да, надо будет серьезно подумать над образом, чтобы стать иконой стиля», – усмехнулся я.
Стилягой никогда не был, и не буду, но и к тому, что висело… м-м… что висит в магазинах «Одежда», у меня стойкая аллергия. Девчонкам хорошо, коричневые школьные платья с фартуками их только красят. Да и традиция неплоха – в такой же форме еще гимназистки ходили до революции, только в «макси», а ныне, слава моде, в ходу «мини» до середины бедра. Есть, на что посмотреть со вкусом…
А каково ученикам приходится? Явиться в класс в кургузом синем пиджачке с идиотскими пуговицами, штампованными из алюмишки… Бр-р! Комплекс неполноценности гарантирован.
В Первомайске приличных тряпок не купишь, разве что по блату. Одна надежда на одесских фарцовщиков – эти всё, что хочешь, достанут, успевай только наличные отсчитывать…
Стащив с себя стройотрядовскую курточку, я подержал ее на вытянутых руках, любуясь, как адмирал кителем. Вон на рукаве ма-аленькая дырочка – ее искра прожгла. Мы собирались вокруг костра после тяжелой смены, пели под гитару, пекли картошку, болтали обо всем на свете, подбрасывали в огонь пихтовые ветки, чтобы дымом отгонять комаров. Искры, виясь, уносились к небу, путаясь с мерцающими звездами, звенели струны, а вокруг сдержанно шумела тайга, будто подпевая… Классика!
В тот самый вечер меня впервые в жизни поцеловала девушка. Марина была выше меня – стройная, длинноногая второкурсница из ХАДИ.4 Девушка шутила поначалу: «Губки у тебя – не промахнешься!», а потом увлеклась процессом. Вот только, когда я попробовал ее приобнять, она мягко отвела мою руку. Сказала: «Я на два года тебя старше…»
Вдруг я взволновался, перескочив на мысли о другой Марине. Воспоминания нахлынули, будоража и жаля. Это случилось тридцать первого августа – послезавтра!
С ума сойти…
То, что должно произойти вскоре, уже было со мной, только в прошлой, как бы первой моей жизни. Я тогда, как и сейчас, отпросился у матери и прикатил в Одессу, точнее, в ее пригород Бугаёвку, за обновками. И встретил на тамошнем рынке удивительную девушку.
Помню всё, до последней мелочи: подъехал неприметный «Жигуленок», из него вышли двое крепких мужчин и она, сразу же завладевшая всем моим вниманием.
Девушка выглядела очень спокойной, почти безмятежной, но причиной тому служила не легкомысленность юности, а внутренняя уверенность и тренированная воля.
Подтянутая, стройная, длинноногая, с небольшой, но высокой грудью, незнакомка была гибка и грациозна – чувствовалась давняя дружба со спортом.
Она, похоже, почти не пользовалась косметикой, но ее чистое лицо и без макияжа впечатляло яркостью: черные глаза, брови вразлет – и яркие от природы губы. Если оценивать строго, то ее слегка портил большеватый, с едва заметной горбинкой нос, зато он придавал девушке некую пикантность, изящную индивидуальность, рисуя в воображении образ индианки-скво. Это впечатление дополняли иссиня-черные волосы, собранные в длинный «хвост», и натуральная смуглинка.
«Скво» неторопливо оглянулась, я на мгновенье поймал ее внимательный взгляд. Нет, он не был адресован мне, просто в незнакомке сработала давняя привычка посматривать вокруг.
Один из мужчин окликнул девушку: «Марина!», но она спокойно проигнорировала зов. Тогда он, сердясь и повышая голос, обратился к ней по званию: «Товарищ старший лейтенант!»
«Скво» хлестнула его негодующим взглядом…
«Ничего себе, – подумал я тогда, – какие барышни бывают!»
Впал в уныние («Пр-роклятый возраст!») и поплелся делать покупки. Четверти часа не прошло, как раздался пугающий треск выстрелов – трое качков в красно-белой спортивной форме палили по какому-то кавказцу рядом с бордовой «Волгой».
Паника на толчке не поднялась – никто просто ничего не понял. Стрельба прекратилась так же быстро, как и началась, набежали ловкие парни в штатском – и унесли Марину…