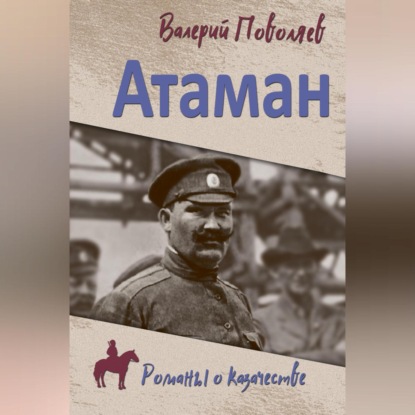Полная версия
На доблесть и на славу
Казаки-конники, разгромив узел немецкой обороны у станицы Егорлыкской, преследовали противника, находясь в боевом соприкосновении с формированиями его 1-й танковой армии, переподчиненными группе армий «Дон», с 3-й танковой, отдельной пехотной, 444-й и 454-й охранными дивизиями. Основательно потрепанные донские дивизии нуждались в срочном пополнении. Отчасти это и решило судьбу Якова Шаганова. Врачи военкомиссии уступили его просьбе и с заключением «условно годен» благословили в селивановский корпус. Шаганов, в звании рядового, был зачислен в штат 37-го полка. Определили временно коноводом. Мало-помалу к нему силы возвращались. Забот с лошадьми было столько, что думать о нездоровье было некогда. Но крепко запомнился придирчивый допрос «особиста»: где служил, почему оказался в партизанском отряде и в медсанбате.
На провесне, в начале февраля, только ночью держались морозцы. А днями было солнечно. Дороги до полудня звенели под копытами и тачанками, под колесами орудий. Потом раскисали, тормозили продвижение донцов. До самого края степи, до Придонья, немцы не оказывали больше мощного сопротивления.
8 февраля селивановцы достигли устья Дона и по льду начали переправу на правобережье, вблизи станицы Елизаветинской. Оттуда, с берегового гребня, долетел и выкосил десятки казаков артиллерийско-минометный смерч. Осколочное эхо раскатилось вдаль по ледяному полю! Но и под обстрелом эскадроны продолжали переходить реку расчлененным строем. Впереди, за станицей и хутором Обуховкой, таилась открытая степь, иссеченная ериками, мочажинами, в зарослях мелкого ивняка да камышей.
Эскадрон Якова стал повзводно стекать на лед. Скачущий рядом седобородый казак-ополченец Иван Епифанович Бормотов, осаживая своего гнедого метиса, оглядел правобережье, повернул голову к Якову:
– Прем, а куды неведомо! Лед да земля. Ни дерева на бережку! Ох, дадут нам зараз колошматки!
– Езжай, езжай! – властно окликнул командир, лейтенант Рудь. – Немцы бегут, аж пятками сверкают! К ночи в Ростове будем!
– Непохоже, – вполголоса проговорил Яков, склоняясь к Епифанычу. – Мы обходим город южней.
– Эска-адрон! Марш-марш!
Раскатистая чечетка подков. Разноголосица. Всхрапывание лошадей. Гулкие на утреннем морозе колеса подвод. Вдали от берега, на стрежне, лед, подмытый течением, пружинил. Из воронок, выломанных снарядами, изливалась зеленая слезливая вода. Опасные круговины объезжали загодя, горяча коней.
Вкрадчивый тягучий рокот, показалось, набежал со степи. Но он круто поднялся ввысь, стал нарастать, и смутная хмара самолетов, приближаясь, стала четко видима над Доном. Минута – и над полками стали выпадать из люков немецких бомбовозов как будто черные семечки. Ускоряя полет, вращаясь, они жутким воем оглушили окрестность! Первая мина, захлебнувшись запредельно-смертным визгом, достигла речной тверди, и – с тяжким треском вдруг вздыбился досель невиданный праховый куст, с искристо-алмазным верхом из ледового крошева. Следом – кучно и врозь – взрывы, взрывы…
С новой партией бомбардировщиков прилетели и «Юнкерсы», которые не только осыпали казачье войско минами, но и расстреливали – будто специально подставленное, распростертое и приготовленное для смертной жатвы. Где-то с левобережья побухивала зениточка, били пулеметы, поливали вслед самолетам отчаявшиеся автоматчики, но осколки и крупнокалиберные пули немцев легко убивали казаков на голом льду, на голом берегу, в приречных камышах. Однако и впереди ждала бабка с косой, укладывала ратников донских, разя шрапнелью и пулеметными очередями бронепоезда, прикрывающего станцию Хопры.
– Где же наши истребители? – стоустым стоном катилось по взводам и подразделениям. – Почему нет прикрытия с воздуха?!
И никто не ведал причины, почему так произошло: из-за преступного головотяпства ли фронтового командования, а, может, и по легкодумной ошибочке штабного генерала, карандашиком рисующего на карте в Ставке.
Отлетали казачьи душеньки, навек отлетали!
Бессмысленно, беззащитно гибли и гибли станичники, офицеры. Среди многих десятков раненых оказались и корпусные командиры. И только под вечер, когда утихло гибельное небо, всем, от рядового до комкора, стало предельно ясно, что вовсе не следовало, не было никакой нужды загонять конников в камыши, в болотистую непролазь. Скакать негде! А нога пехотинца ступит беспрепятственно там, где под копытом лошади прогрузнет стянутый корочкой грязевой наст, где преградят дорогу ивняковые дебри и тростники, – в разъем двух камышин проскользнет вездесущий солдат. Но был откуда-то сверху дан приказ, политработники разожгли сердца казаков пламенными словами, – за Родину, за Сталина! – и они рванулись вперед, надеясь, что окажутся в огромном городе одними из первых, в своем безоглядном и роковом заблуждении…
Яков не мог сдержать слез гнева и бессилия, то, зарываясь, как крот, в суглинок кручки, то озирая распах Дона, обережье, небо, где хороводили вражеские самолеты, то прикипая взглядом к черно-рыже-белому пожару на изломанном льду: взметая гривы, лошади метались вдоль крутобережья, неслись в диком страхе прочь, на зияющие черные водовороты, и, пронизанные осколками, взвивались, подкошенно падали, а те, что опередили их, оскальзывались на крыгах, заливисто трубя, уходили в быстро затягивающую темь…
В сумерки по-весеннему потеплело, сильно поредевшие полки 12-й и 63-й дивизий вброд, по льду с выступившей поверх водой принялись форсировать Мертвый Донец, – он воистину оказался мертвым.
Казаков встретил артиллерийский огонь. Однако передовым эскадронам 11-й дивизии, крадущимся вдоль берега, по камышам, подожженным немцами, удалось ночью приблизиться к станице Нижнегниловской.
Частям, оставленным во втором эшелоне, был дан приказ окапываться. Саперные лопатки с трудом кромсали промерзший грунт, путанину камышовых и травяных корневищ. Яков копал на сменку с Епифанычем. Его казаки прижаливали, зная, что недавно из медсанбата.
– Не зря я тобе, Яшенька, гутарил, – вздохнул ополченец, передавая лопатку коноводу. – Дуром нас на лед погнали! Считай, пол-эскадрона полегло. И лошадок пошти всех потеряли. В нашем эскадроне – ни единой не осталось, в третьем – две захудалых кобыленки. Никак в пехоту перекуют!
– Должно так, – откликнулся тоже немолодой бородатый казак-обозник, орудующий штыковой лопатой. – Погибать везде одинаково. Нам худо, а каково антиллеристам? На собе тягают пушки. Без коней-то…
– Зараз неможно тягнутъ. Вот под утро приморозит, колеса покатятся, – заключил Иван Епифанович.
– Ух, ты, как содють! Ростов берут наши, – выпрямляясь и глядя в ночное пространство над речной долиной, точно в грозу, полыхающее молниями орудийных залпов, пожарами, проговорил дядька Кузьма Волошинов, давнишний дружок самого Буденного.
– Там, должно, гуще народу, – вновь подал голос бородач. – Мы «ганса» не уменьем, а числом развоюем! Энто как на улице: отбуздали трое одного, а тот собирает кумпанию – обидчиков отметелили. Те свою шайку – побили недругов. И пошло, и поехало, покеда пополнение не кончится. У немцев силенок – кот наплакал, а Расея – многолюдная!
– Пустое мелешь! – осадил Иван Епифанович. – О народе пущай Сталин и Калинин думают. А мы туточко под смертью ходим. Вон скольких побило! Реутова, Костю Марченко, Елагина, Барзукова… Царствие им небесное!
И надолго все смолкли.
Все дальше на северо-востоке, за береговым гребнем, озаряли небо над Ростовом фронтовые огни: зависали разноцветные ракеты, поднимались и падали колонны прожекторов, и – беспрерывно будоражил ночь гул канонады.
– Выходит, мы первыми через Дон перелезли, – посмотрев на небо, сказал копающий рядом с Яковом сержант Медведицков. – Из-за Дона орудия бьют. А пехота, надо понимать, еще позади. А нас вроде приманки кинули, чтоб немцев отвлечь. Да-а, вспопашится «ганс», навесит нам мандюлей!
– «Ганс» уже не тот, что осенью, – возразил Епифаныч, беря у Якова лопатку и очищая налипшую на сапоги вязкую грязь. – Немец зараз, как волк-подранок, огрызается. А мы его должны травить верно, насмерть.
Человечек в шинели неожиданно возник рядом, прикрикнул:
– О чем митингуете? Глубже копайте, а не рассуждайте!
– Здравия желаю, товарищ оперуполномоченный! – узнал Иван Епифанович стальной басок особиста Кузнецова и нарочито весело поведал: – Чтоб шибче копалось, про хорошее толкуем. Какие бабы в «деле» жарче: рыжие, чернявые аль блондинистые?
– Стыдно в твои годы, Бормотов, о глупостях говорить, – поучительно напомнил лейтенант. – Нашли тему! Враг ощетинился. Надо мобилизовать волю, сплотиться вокруг партячейки, чтобы успешно бить фашистского зверя… А ты, Шаганов, почему филонишь?
– Я только отдал лопатку…
– А где твоя?
– Товарищ уполномоченный! – вступился Бормотов. – Мы от бомбежки разбежались, перепутались. С миру по нитке шанцевый инструмент добыли. Командир взвода…
– Где ваш командир? – разгневался лейтенант. – Ну и дисциплинка!
– Он погиб, – в темноте разяще просто прозвучал голос Медведицкова. – Я остался старший по званию.
– Ну, так командуй! Устроили, понимаешь, говорильню…
Казаки молча проводили этого человечка, незвано появившегося и ушедшего, прозванного в полку Кузнечиком. Подавленное – после дневного ада – настроение вновь вернулось к ним…
Поднявшийся ветер взвихрил на прожогах камышовый пепел, саднил в горле удушливым запахом гари. Усталость одолевала людей, валила на вороха камыша, на постеленные поверх них попоны, оставшиеся от лошадей. Пахли они нахоложено-смутно лошадиным потом, степью. И не могли казаки унять души, потрясенные столь внезапной развязкой…
За полночь, пожалуй, со станичной окраины, донесся перекатистый грохот боя. С протяжным выхлопом, слитно залопотали ППШ, в ответ – визгливо-надсадный хор немецких «шмайсеров» и пулеметов, аханье гранат. Струи трассирующих пуль вдалеке рассекли поднебесье.
– Сошлись! – выдохнул Иван Епифанович и перекрестился. – Помоги и пощади, Господи, братьев казаков!
Двое суток кряду 5-й Донской казачий корпус бился с немецкими частями, имеющими не только позиционное преимущество, превосходящими селивановцев в вооружении, но и активно взаимодействующими с авиацией. Казаки овладели станцией Хопры, перерезали железнодорожную ветку, ведущую от Ростова к Таганрогу. Под их напором стал отходить противник из Нижнегниловской. Но с каждой атакой ряды казачьи таяли, редели столь катастрофически, что штаб Северо-Кавказского фронта, опасаясь потери корпуса, решил заменить его стрелковыми частями.
Ранним утром, 11 февраля, подошла пехота, и казаки стали передавать боевые позиции. Но едва донцы отхлынули, оттягиваясь в тыл, как немцы контратаковали! Пехотинцы дрогнули, попятились. Майор Рутковский, оперативник штаба 11-й дивизии, на собственный риск повернул 37-й и 39-й полки обратно, с ходу бросая в бой! И еще сутки сражались эскадронцы, позволяя основным силам корпуса переправиться на левый берег Дона, к сельцу Койсуг.
Всего три денечка отвели Селиванову для сбора и перетряски обезлюдивших полков, для назначения командиров и выяснения собственных сил и возможностей. Убитыми и ранеными он потерял на донском берегу треть численного состава, не досчитался около тысячи лошадей.
И точно в насмешку, на следующий день после освобождения Ростова комкору поступает приказ, придуманный в штабе фронта, – снова переправляться через Дон (в третий раз за неделю!), продвигаться тем же самым маршрутом – на Хопры и Недвиговку, с задачей выхода к реке Миус вблизи Матвеева Кургана.
И тронулось, двинулось всей громадой казачье войско, по льду, вброд преодолевая и Дон, и Мертвый Донец, и глубокие ерики. За нехваткой лошадей, орудия и минометы тащили самопрягом, пихали на бугры, выволакивали из мочажин. Бывшие конники месили раскисший чернозем, не без зависти поглядывая на тех, кому посчастливилось остаться в седле. Яков, угрюмый и молчаливый, шагал в строю, нес в душе тяжелую ношу, искал и не находил объяснений, почему казаков посылают на самые опасные участки, обрекая на истребление? Так было прошлым летом на ейском рубеже, в бурунах, теперь – под Ростовом. Как будто кто-то кощунственно проверяет казачий дух и плоть на прочность, – даже ценой невиданных жертв…
14На редкость свободно, без единого выстрела, завернул в Ключевской средь бела дня разъезд казаков-селивановцев. На майдане разведчики спешились, в крайнем дворе разжились ведром и, пока одни поили лошадей, другие расспрашивали, когда ушли немцы и в каком направлении, есть ли в хуторе полицаи. И без промедления, с благодарностью приняв от собравшихся хуторянок харчишки, ускакали вдогон отступившему врагу.
Радостная весть пронеслась по хутору! Прокопий Колядов, дед Корней, Веретельников, Горловцев поспешили к казачьей управе. Первым делом сбили вывеску, а подоспевший писарь Калюжный отомкнул дверь. Активисты тут же выбрали своим руководителем Колядова и, вооружившись топорами и кинжалами, точно в княжеские времена, пошли по дворам предателей Родины. Не минули и Шагановых. Лидия хмуро, с неприятным удивлением выслушивала злоумышленные вопросы Прокопия, ответы на которые он знал не хуже ее самой.
– Ты, Лидия Никитична, отвечай, пожалуйста, не торопясь, – просил Калюжный, писавший карандашом в блокноте. – Так положено для протокола.
На другой день к Лидии пожаловали подруги: Таисия, Варя Лущилина, Баталина Антонина и тетка Матрена. Торбиха не бывала у Шагановых со дня похорон Степана Тихоновича и, увидев обедневшее убранство комнат, завздыхала. Таисия прицыкнула на нее и озабоченно спросила:
– Будем сгонять коров на ферму или повременим?
– Торопиться незачем, – рассудила Лидия. – Они при нас. Установится порядок – прикажут.
– Наезжала нонче с утреца кума из Пронской, – уставясь на Лидию, зачастила тетка Матрена. – Ходят милиционеры с военными по дворам, предателей выявляют. И требуют все колхозное вернуть.
– Вернем, – бросила Лидия и повернулась к ойкнувшей Антонине, опустившей руку на свой выпуклый живот.
– Ворочается? – догадалась Варя, открывая в улыбке подковку зубов.
– Должно, танцором будет.
– А я приглядываюсь, и ты, Лида, в тягостях? – полюбопытствовала Торбиха.
– А тебе зачем знать? – резко оборвала хозяйка.
– По-бабьи спросила. Оно-то рожать можно, когда пригляд и помочь есть. У Тоси и мать, и отец на ногах. А ты одна-одинешенька. Живешь – не с кем покалякать, помрешь – некому поплакать.
– Не пропаду!
– Ты лучше расскажи, тетка Матрена, как тебя немцы фотографировали, – усмехнулась Таисия, доставая из кармана зипунки[8] полную горсть тыквенных семечек и высыпая их на стол.
– Вы дюже языками не метите, – насупилась Торбиха, вздергивая на плечи свою шерстяную кацавейку. – Коды проходили фрицы через хутор, к мине на постой определились. Двое из казаков, а третий – немчуган. Пожрали и завалились дрыхнуть. А кони на привязи, во дворе. Я у вас, Варя, по-суседски переночевала. Утром прихожу. Они глаза продрали, об жизни гутарят. Всех по матушке кроют, особливо Гитлера с… вождем нашим дорогим Сталиным. Я на них кричать: «Как смеете Иосифа Виссарионовича поминать? С Гитлерюкой проклятым ровнять?» Они блымкают глазами, а немчуган достает пистолет, и угрожать!
– Не выдумывай, – остановила балаболку Таисия. – Рассказывай правду.
– Чес-стное слово! Не брешу… Опосля подъезжает на большой машине мордатый немец, какой в газете….
– Корреспондент, что ли, – подсказала Варя.
– В аккурат – он! Слоняется по хате, по двору. Встрамил глазюки – и всё! «Ой, – думаю, – голодный мужик. Надо удирать, а то на старости лет ссильничает, позора не оберешься». Вон, Тонечку, Варину сестру, сказнили румыняки!
– Душа болит – не могу, – заволновалась Таисия, качая головой. – Иной раз приснится дорогая кумушка, так ясно, как живая.
– Царство ей небесное! Все там будем, – вздохнула Торбиха и, взяв щепотку семечек, помолчала, скорбно стянув губы. – И только я вознамерилась в калитку рыпнутъся, как энтот самый из газеты требует с недоговором: надобно пропечатать фотокарточку донской казачки. Ты, дескать, обличьем подходишь по всем статьям. «Ни боже мой! – отказываюсь. – Завтра вас ищи-свищи, а наши придут, найдут в газетке моё физиономие – в лагеря сошлют!» Доказывает, мол, газета германская и доступу к ней нет. «Я тебе, матка, – уговаривает, – выдам две банки концервов и шоколаду. Соглашайся, прославишь и себя, и Тихий Дон в разных странах».
– Да послала бы подальше! – выкрикнула Лидия.
– Боязнь одолела. «Ну, давай, мол. Щелкай». Он, холера, обращается к немцу-коннику, а тот лыбится и зачинает раздеваться. «Ну, – думаю, – пропала! Будут амором сильничать!» И к двери! А мурлан загородил дорогу и успокаивает: «Не боись. Мы тебя обмундируем. Чтоб была воинственной!»
– Ох, вляпалась! – крутнула головой Антонина.
– Влезла я абы-абы в галифе, гимнастерку дают. Опосля того – сапоги и ремень. Кубанку позычили и саблю. В обчем, опугалась не хуже атамана. Вывели на крылъцо. Мурлан аппаратом прицелялся, прицелялся и требует на коняку залезать. А я кобыл смалочку боюсь! Молю пощадить – не слухаются. Втроем закинули в седло, дали поводок. А коняка на дыбки! «Упаду, – думаю, – косточек не соберут». А мурлан бегает, щелкает. Сжалился казак усатенький, осадил кобылу. Сполозила я наземь. Разделась. А немчуган заверяет: «Так и в газетке пропишу под фотокарточкой: “Лихая казачка Мотя защищает Дон”». А концервы, мордоплюй, зажилил.
Женщины заулыбались. Варя откинулась назад и захохотала:
– Ой, представила тебя, тетка Матрена, в штанах!
– И верно, стыдобище, – согласилась рассказчица. – Была б я цыбатая[9] – так-сяк, а тута… Коровяка в галифе. Надо было больной прикинуться…
Заливистый лай Жульки призвал Лидию к окну. Двое военных в форменных шапках, с темно-синими петлицами на воротниках шинелей, с кобурами на поясах, шли по двору вслед за Прокопием Колядовым. Сердце дрогнуло! Подруги, увидев незнакомцев, догадались, как и Лидия, что пожаловали они неспроста. Тетка Матрена, побледнев, мигом подскочила с лавки, вместе с ней засобиралисъ домой Антонина и Варя. Лишь Таисия сохраняла спокойствие.
Пришедшие без стука завалили в горницу. Прокопий, сдвинув рыжие брови, ткнул рукой:
– Вот это и есть Шаганова Лидия, – и повелительно бросил: – Прошу очистить помещение! Товарищи офицеры при исполнении обязанностей.
– А я – соседка. Могу остаться? – изогнув бровь, не без кокетства спросила Таисия.
– Когда понадобитесь, гражданки, – вызовем, – небрежно ответил приземистый лейтенант, стоящий рядом с Прокопием. – До свиданья!
Жар окатил Лидию с головы до ног. Она проводила взглядом помрачневших, сочувственно вздыхающих подруг, без суеты предложила:
– Садитесь. В ногах правды нет.
Высокий и худой, как сенина, молоденький офицер глянул исподлобья и поправил:
– Не садитесь, а присаживайтесь. Разницу надо понимать.
Лидия опустилась на край кровати, сцепила ладони на коленях. Чекисты зашныряли глазами по стенам, увидели в рамочке портрет Степана Тихоновича. Офицерик обернулся к Прокопию:
– Это кто?
– Самый предатель Родины.
– Снять! Другие снимки еще имеются? – повышая голос, обратился он теперь к хозяйке.
– Осталась только эта, – не отводя взгляда, ответила Лидия.
Коренастый перекинул через голову ремешок полевой сумки, положил ее на стол, медленно расстегнул пуговицы шинели. Но снимать не стал, придвинул табурет и сел за стол одетым. Сдернул шапку и приткнул на сундук, пригладил двумя руками зачесанные назад смоляные волосы. Наблюдая, как напарник убирает пожелтевший фотопортрет в большой трофейный портфель, приказал:
– Начинайте обыск. А мы потолкуем. И не мешать!
Оставшись наедине с хозяйкой, лейтенант закурил папиросу. Дружески спросил:
– Одна живешь?
– С сынишкой.
– Играет?
– С друзьями на речку пошел. Щук острогой колет.
Энкавэдист, зажав в уголке рта папиросу, вынул из сумки толстую тетрадь и двухсторонний красно-синий карандаш. Потом покопался, достал и перочинный ножичек, стал на столешнице затачивать грифельные кончики. Он был очень симпатичен, этот случайный гость, – смуглокож, глазаст, чернобров, и, безусловно, нравился женщинам. И зная об этом, вовсе не спешил, держался с молодой хуторянкой раскрепощенно, наслаждаясь своей властью.
– А где же муж? – подняв голову, вдруг поинтересовался красавец.
– Точно не знаю. Наверно, у партизан. Он ушел к ним в конце ноября.
– Ой, Лидия, сочиняешь, – лукаво упрекнул энкавэдист. И эта ухмылочка мигом отрезвила, – прикидывается участливым, ищет доверия.
– Я говорю правду.
– Лжешь. Я же по глазам твоим вижу, – нахмурился офицер, бросив окурок в чугунок с геранью, стоящий на подоконнике. – Твой муженек дезертировал из Красной Армии. Помогал отцу-старосте. А потом вступил в казачью сотню. Сейчас у фашистов.
Черные глаза лейтенанта расширились, загорелись ненавистью.
– Он еще хуже, чем его папаша мерзавец. Он, лампасник, убивает наших бойцов!
– Не верю. Яков у партизан.
– Предупреждаю в первый и последний раз, – отчеканил энкавэдист. – Привлеку к уголовной ответственности за ложные показания. Отвечать быстро и точно. Какие поручения староста давал лично тебе?
– Выгребать у коровы навоз. Наносить ведрами воды…
– Ты! Сучка! Еще раз состришь, – застрелю на месте! – в полную грудь крикнул следователь, кося бешеными глазами. – Я – оперуполномоченный НКВД Особой комендатуры фронта. И при необходимости имею полномочия применять оружие.
– Я вам отвечала без умысла.
– Не прикидывайся дурочкой! Ты понимаешь, о чем речь. Что тебе известно о немецкой агентуре?
– Ничего.
– Напомню. Незадолго до отступления оккупантов к вам приезжал связной. По приказу немецкой разведки твои родственники сбежали, а тебе поручено вести наблюдение за передвижением наших войск и заниматься вредительством. Кто входит в твою группу?
– У меня нет группы.
– Ну, вот. Становишься сговорчивей. Значит, действуешь одна?
– Я не понимаю, чего вы от меня добиваетесь? – рассудительно произнесла Лидия. – Никто никаких заданий мне не давал. Я как все, работала на уборке хлеба, доила коров.
– Напомню. При отступлении наших войск, в августе прошлого года, по приказу районного комитета обороны подлежало уничтожению поголовье крупного рогатого скота, которое не смогли эвакуировать. Ты спровоцировала саботаж. Тобой организовано неповиновение офицеру НКВД, что не позволило выполнить приказ. У меня протокол допроса свидетелей. Ты сохранила колхозное стадо, чтобы наладить снабжение молоком гитлеровской армии.
– Мой свекор, староста, занизил число коров. Мы всего один раз сдали масло.
– Какие инструкции, повторяю, получили от немцев ты и твои родственники?
– Я ненавижу немцев. И мои родственники их ненавидят. А свекра выбрали, упросили быть старостой. И он относился к ним как к врагам. Как мог, защищал хуторян.
– Молчать! Отвечать только на вопросы. Где скрываются отец и жена старосты?
– Они уехали дней пять назад с обозом.
– В каком месте спрятано тобой или старостой оружие?
– Я не видела у него оружия. Хотя нет… Был пистолет. Его забрал Шевякин.
– Ты – ЧСИР. Член семьи изменника Родины. Знаешь, чем это грозит? От расстрела до пожизненного заключения. Как кому повезет! Чистосердечное признание может несколько смягчить вину. Даю последний шанс.
– Мне не в чем сознаваться, – твердо ответила Лидия, с ужасом начиная понимать, что с этого часа ее прежней жизни пришел конец, и вплотную придвинулось великое горе-испытание, о котором она даже предположить не могла.
Размеренно тикали ходики на стене. Густо задымленная комната казалось чужой. Наклоненное лицо энкавэдиста сосредоточенно окаменело. Он торопливо гонял карандаш по листам, метил их синей вязью слов, иногда подчеркивая фразы красным цветом. В чугунке желтыми червями извивались окурки. Лидию тошнило, – беременность протекала тяжело. Но этот допрос вытянул столько сил, что она не могла шевельнуться. Лихорадочно проносились мысли: у кого оставить сына, кто будет приглядывать за хатой, возьмет к себе колхозную Вишню, собачонку…
– Прочти и распишись.
Лидия заставила себя встать, – взгляд женолюбца оценивающе скользнул по ней. Взяла дрожащей рукой тетрадные листки.
– Не стой пнем. Вот же табурет, – по-хозяйски распорядился лейтенант, светлея лицом.
Лидия стала вчитываться в протокол допроса, и вдруг ощутила, как по телу пробежали мурашки, сковал душу озноб, – с такой леденящей заостренностью и целенаправленностью были построены вопросы и подробные ответы, что не оставалось и малейшего сомнения в ее враждебном отношении к советской власти, Красной Армии и пособничестве фашистам.
– Ловко состряпано, – сверху вниз глянула Лидия, кладя листки на стол. – Такого я не говорила.
– Подписывай! Иначе изолирую – и просидишь до утра в подвале.