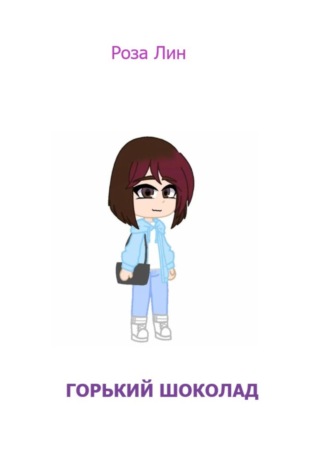
Полная версия
Горький шоколад
В одной из областей новообразовавшейся России после распада советского союза в объятиях степных ветров и окружении лесов, полей и озер спряталось одно село с населением сто двадцать человек. Туда я и переехала из поселка, находящегося в той же области. Мама получила дом и должность в управлении деревенского колхоза. Мне пришлось покинуть родной поселок, где я родилась, школу, в которую привыкла ходить, бабушкин огород, в котором любила играть и собирать ягоды. Мне было нетрудно привыкнуть к новому месту жительства, гораздо сильнее меня пугала новая школа и незнакомые люди: учителя и новые одноклассники.
Село, окружённое пятью озерами, казалось мне невероятно красивым местом. К тому же мы поселились в самом его центре, где находилась контора местного самоуправления. Почти в двух шагах от нашего дома была школа и магазин. А еще клуб для проката фильмов, концертов местной самодеятельности и вечерних дискотек. Но самое парадоксальное для меня было то, что этот клуб располагался в местной полуразрушенной церкви, которую я увидела в первый раз в своей жизни.
Наш довольно добротный трехкомнатный дом, с очень большим огородом, располагался перед озером, до которого было всего три метра, от калитки в конце огорода. Летом было здорово там купаться, а обсохнуть и позагорать можно было у себя во дворе, располагаясь на покрывале, которое мы расстилали вблизи клумб с цветами георгин, астр, ириса и лилий. Мы с сестрой любили смотреть на бесконечное голубое небо. И часто придумывали по очертаниям белых воздушных облачков разные схожести с животными или предметами. А когда замечали в небе самолет, летевшего куда-то в даль, кричали громко детскую считалочку: «Самолёт, самолёт, ты возьми меня в полёт. А в полёте пусто, выросла капуста…».
А в дни разбушевавшейся непогоды или в период дождей с озера, играя большими волнами мутной воды, дул сильный холодный и влажный ветер. В такую погоду долго на улице не погуляешь, я забегала в дом и на застекленной террасе смотрела на кусочек озерного пейзажа, виднеющегося из-за постройки, почти закрывающей вид на огород, а за ним и озера.
Обволакивающие расплывающиеся темные тучи, повисали над озером, застилая все небо. Темно-серые полутона переливались с грязно-голубыми оттенками замутненной воды озера. Я любила стоять у маленького окошка, смотря вдаль на завораживающий вид буйной стихии воды и ветра, слушая глухой перестук то какой-нибудь штукой по крыше дома, то оторвавшейся проволочкой о железный столб, соединяющий веревки для просушки белья. И постоянно думала, как было бы здорово запечатлеть этот вид на картине, но я не умела рисовать, а фотоаппарата у нас не было. И только окончательно замерзнув в своем уединенном наблюдательном местечке, я бежала в дом греться.
В ожидании начала учебного года, не найдя новых друзей, все дни летних каникул я провела одна в новой обстановке: село, дом, огород, озеро. Сестра, погостив немного с нами, вскоре уехала к бабушке. Единственным развлечением для меня в тот период были озеро, книги и фильмы, которые я смотрела в местном кинотеатре, именуемый местными жителями как «Клуб». Конечно, я могла смотреть фильмы дома по телевизору. Но наш ламповый «телик» очень часто не работал то из-за внутренних неполадок каких-то, то из-за антенны, которая не ловила ни один канал.
Когда в село привозили очередной индийский фильм, женщина ответственная за прокат фильмов каждый раз вывешивала на синий забор у магазина в центре села плакаты, раскрашенные вручную. Так люди, проходившие мимо, читали под вывеской крупными буквами «КИНО» название фильма, время, цену и страну производства, часто это была Индия.
Я тоже частенько бегала к этому забору и проверяла, какой фильм привезли. Если мне нравилось название, я отпрашивалась у мамы, просила нужную сумму денег на билет, и, если она была, летела стрелой в клуб, где показывали кино. Тогда мне очень понравились фильмы с красивым, на мой взгляд, индийским актёром Митхуном Чакроборти. После просмотренного мною «Танцора Диско» мелодии из этого фильма не сходили с языка, так и напевала ежечасно: «Джимми, Джимми, ача, ача».
Наверное, я училась искренней и в некоторой степени наивной любви по индийским фильмам. В красочной атмосфере красивых зданий, зелёных ландшафтов индийской природы, разноцветных сари героинь и гигантских слонов, рассказанная в фильме история нравственной любви, побеждающая все горести, пороки и аморальное поведение, казалась сказочной. Иногда торжество справедливости и добродетели в тех фильмах ярко утверждало мнение народа о том, что добро побеждает зло.
Часто фильмы начинались вечером и заканчивались, когда на улице уже темнело. Но это меня не пугало. Ведь эти фильмы, где главный герой сражался, вступая в драку со злодеями, за правду и справедливость, за спасение любимой, меня очень воодушевляли на смелость. Так что пусть даже и была темнота, и была вероятность, что на моем пути вдруг возникнет какой-нибудь местный злодей, я была готова дать ему сдачи и драться с ним. С такими мыслями и настроем я успешно добиралась до дома, который был совсем недалеко, и никаких нехороших людей на моем пути не встречалось, к счастью. Это было очень наивное и беззаботное время.
Мы часто навещали знакомую моей мамы, которая угощала нас пирогами или предлагала посмотреть какой-нибудь интересный фильм на видеокассете, привезённой ею из города. У многих семей уже появлялись в домах видеомагнитофоны, которые прозвали «видиками», и приставки. Иногда мы смотрели фильмы или диснеевские мультики, которые часто сопровождались забавным закадровым одноголосым пиратским переводом. Считалось престижно иметь «чудо-новинку» техники, особенно зарубежную. Сын знакомой моей мамы был младше меня на пять лет и часто играл в «Сегу» и «Денди». Мне были не знакомы такие развлечения и совсем не увлекали видеоигры.

В ту пору, хотя я и замечала разницу в состоянии что мы можем позволить себе приобрести, а что нет, мне совершенно было не важно, есть ли у нас крутой магнитофон или «видик», приставки или крутые кроссовки. Главное было то, что мама рядом, мы живем вместе, едим, гуляем, иногда разговариваем на очень интересные темы о жизни, как правильно поступать, а как нет, какие отношения могут быть у женщины и мужчины, почему люди бывают агрессивными или добрыми. Если у неё было хорошее настроение, мы могли с ней обсуждать разные темы. И иногда я осмеливалась расспросить о её и моего отца прошлом, как они познакомились с папой, и почему у них не сложилось, кто им помешал быть счастливыми вместе. И чаще мне удавалось побыть с ней вдвоем не только во время наших бесед, но и тогда, когда она проявляла ко мне заботу и внимание, обрабатывая мои раны с прикладыванием подорожника, перебинтовывая ногу, когда я имела неосторожность пораниться стеклом, купаясь в озере. Я чувствовала к ней безграничную привязанность. И можно сказать, что наши отношения с ней складывались на доверии. Поэтому я могла гулять по окрестностям и исследовать новый для меня мир сельской местности, не опасаясь никаких наказаний. В самую первую свою прогулку по селу мое внимание привлекло здание с большим куполом и погнутым крестом.
До приезда в село я никогда не видела церковь вживую, только в фильмах по телевизору. Мне казалось ее гигантское строение из красного кирпича пугающим, но очень красивым. От сельчан мама слышала, что это лишь четвертая часть, того монастырского комплекса, которое тянулось на пятьсот метров в длину и шестьсот метров в ширину. И с приходом советской власти практически весь комплекс был разрушен, кирпич растаскан местными жителями или был увезен в ближайшие селения, а служащие монастыря были изгнаны или убиты. И всё, что осталось теперь – это полуразрушенные фасады, большой овальный купол с ободранной свисающей кусками отделкой и погнутый железный крест на его вершине. А также и разрушенное внутреннее убранство с потёртыми образами святых.
Я не была крещёной или верующим человеком, также, как и моя семья. Мы никогда не ходили в церковь, и никогда не молились. Все мои познания складывались из рассказов окружающих и телепередач о Боге и религиях, которые из случайности или нет попадались в поле моего зрения. На тот момент мои ощущения подсказывали мне, что Бог есть, но я в него мало верила. «Ведь я его не вижу. Как можно поверить в то, чего не видишь и не ощущаешь?» – так я думала в то время. Хотя сейчас мои осмысления изменились. Так как всё ли существует только потому, что мы это видим и осязаем своими органами чувств? И может быть, то самое «несуществующее» что мы должны разглядеть глазами, на самом деле, в него следует всматриваться своим духовным сердцем через любовь? Но тогда я мало знала о любви, не говоря уже о Боге.
Образ искалеченного и побитого великана в виде церкви у меня вызывал сострадание и возмущение одновременно. Однажды, проходя мимо, я рассмотрела, как красиво и с особым узором у окон выложены красные кирпичи церкви. Набралась смелости и вошла внутрь полуразрушенного строения с куполом. Мне было так интересно, как же она выглядела изнутри. Я зашла, и после арки с искривленными и покосившимися старыми деревянными дверями передо мной предстал огромный зал и высокий свод купола. Внутри были искорёжены все кирпичные стены, стёрта известь, на полу лежала отлетевшая штукатурка. Уже давно здесь не было пола. Он был вскрыт и остатки дощечек были разбросаны по каменной земле. А в некоторых местах были вырыты ямы.
Как же люди осмелились такое сотворить? Как решились так вероломно и нагло обесчестить «намоленные» и благословлённые богом места? Скорее всего, я произнесла своё удивление вслух. Потому что тут же послышался старческий мужской голос. Там, на одном из камней, сидел старичок с большой редеющей седой бородой, большими добрыми глазами и с деревянной тросточкой, украшенной резными цветами, узорами и непонятными символами. Его одежда была обычной, немного старой, но опрятной. Опираясь на тросточку и подпирая свой подбородок руками, он предложил мне послушать его рассказ о легендах села и этой церкви. Я, неуверенно согласившись, присела на камушек рядом и стала слушать.
Глава 4.
ЛЕГЕНДА О ЦЕРКВИ
И начал старик свой рассказ.
А сколько труда, усилий, материалов было вложено! Приезжие специалисты возле озера сами изготавливали кирпичи, другие работники замешивали раствор на глине и яйцах для прочного соединения кладки. Все работы велись вручную без использования техники. А чтобы оплатить труд мастерам и затраты на материалы с населения собирали по одному рублю. На один рубль можно было купить в то время хорошую дойную корову. Но, несмотря на весомую сумму, верующие прихожане готовы были пойти на эту жертву, чтобы вместе создать такое место, в котором можно и молится Богу, и воспевать «Боже храни царя», и отпевать умерших, и устраивать венчания, и обучать грамоте детей. Здание, которое больше не разрушится от огненной стихии. В начале двадцатого века в тысяча девятьсот четырнадцатом году начало строительства каменной церкви, после многочисленных пожаров старых деревянных строений церкви, были одобрены патриархатом уездного собрания.
Местные купцы и воротилы жестоко обращались с обычными крестьянами, пришедших на строительные работы. Рабочие селились в землянках, где вместо пола был настил из жердей, самодельные небольшие печи, а кровати заменяли накиданные кучки соломы. В день крестьянам выдавали паи из кусков чёрного хлеба с лебедой и кувшина разбавленного молока только два раза. Но все неимущие люди старались выполнять работу и получить оплату по восемьдесят пять копеек в неделю, чтобы прокормить свои семьи.
Поговаривали, что уже с началом строительства церкви проникали в сознания местных жителей идеи ленинизма и коллективизма, горячо распространяемые, из-за голода и несправедливого отношения властей, революционерами по всей российской империи. Часто землянки наполнялись группами рабочих крестьян, обсуждающих новые идеи о равенстве народов, о правительстве, способном выслушать мнение всех слоёв населения, особенно крестьян, для которых в свою очередь важно было получить земли находящиеся до сих пор во владении дворян и помещиков, отбора имущества и капитала у «богатеев», накормив всех голодающих хлебом.
В те времена архитектор, взявшийся за возведение монастыря, за год до окончания стройки перевез всю свою семью в это село. От местного управления ему выделили купеческую двухэтажную усадьбу с участком и подворьем домашних животных. А также в услужение отправили местную семью, присматривающую за хозяйством в доме и во дворе. Семья архитектора была небольшая и состояла из четырех человек: сам хозяин, его жена, сын и младшая дочь тринадцати лет отроду. Прислуживающая же семья напротив была многодетной, у родителей было три дочери и два сына, и все селились в постройках в конце подворья рядом с хлевами скота и складами.
Макар Семёнович был знаменитым архитектором и зодчим, возводившим проекты церквей по многим соседствующим губерниям. Его состояние оценивали в три раза превышающее местных купцов. Поэтому все жители относились и к Макару Семёновичу и его семье с почтением и услужливостью. Целыми днями он проводил на стройке и всегда брал с собой сына Макара, которому уже было двадцать лет. Архитектор часто учил его чертежному делу, счетоводству и управлению. Командовать мастерами было нелёгкое дело. В некоторых сильно бедных селениях, рабочие часто воровали материалы, еду со склада, или даже бунтовали. Поэтому ему приходилось в каждую строительную компанию нанимать надсмотрщиков, которые за непослушание наказывали бунтарей кнутами. Но на этот проект он решил сменить тактику и ограничился одним надсмотрщиком, которому велел использовать кнут только в редких случаях. А сам он два раза в неделю вместе с батюшкой проходил по стройке с воодушевляющими и подбадривающими речами, обещая каждому труженику в конце работ выдать хорошее поощрение.
Жена Макара Семёновича Елена Аркадьевна следила за хозяйством и присматривала за дочкой, с которой они во второй половине дня часто сидели на террасе, занимаясь вышивкой. Тринадцатилетняя Анастасия увлекалась художественным искусством и мечтала однажды покинуть родительский дом и отправится на учёбу к лучшим художникам столицы. А пока она писала сама в основном пейзажи, они у нее получались лучше портретов, по словам ее матушки. Каждое утро она отпрашивалась у матери и с мольбертом и инструментами, которые несли крестьянские дети, служившие в их доме, отправлялась на ближайшее поле или луг. Там ей удавалось отыскать небольшие оазисы красивейших полевых цветов на фоне летней травы и хвойного леса, которые она передавала на холст часами до самого обеда.
Елена Аркадьевна доверяла в сопровождение только девочек, Катьку и Марфу, которые таскали инструменты для хозяйской дочки поочередно по дням. Двое старших и отец семейства Николай из крестьянской семьи уходили на стройку и трудились по поручениям Макара Семёновича. И в хозяйстве рабочие женские руки очень были нужны, где-то готовить обед, где-то стирку устраивать, а где-то за скотом и птицами приглядывать, поэтому носить мольберты барышне приставили младшего шестнадцатилетнего сына Петьку. С той поры Анастасия проводила утренние часы в компании очень красивого и высокого юноши, понравившегося ей с первого взгляда. Ей трудно было оторваться от его чёрных волос и ярких карих глаз.
Встречу с Петькой Настя ждала каждый раз с нетерпением. Он рассказывал ей смешные истории и старался услужить, несмотря на то, что она ему тоже понравилась. Он старался держаться от неё отстранённо, но только на территории двора ее дома, когда же они оставались наедине он принимал угощения от Анастасии, ласково называл её Настенька. Ему нравилось наблюдать как тёплый летний ветерок играл с её золотистыми длинными волосами. И после каждого резкого дуновения ветра он с удовольствием помогал Настеньке прибрать разлетевшиеся локоны, охватывающие её лицо как пламя у лба за ухо. Так, во время перерыва, вместе они сидели на скатерти во время чаепития с баранками и делились историями из своего детства или мечтами о своем будущем.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

