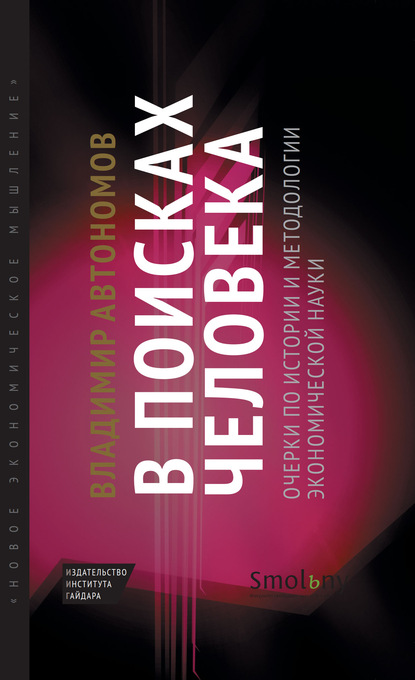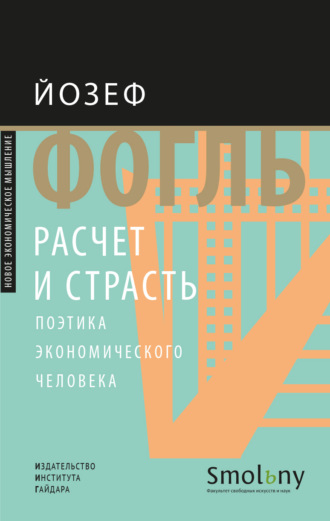
Полная версия
Расчет и страсть. Поэтика экономического человека

Йозеф Фогль
Расчет и страсть. Поэтика экономического человека
Joseph Vogl
Kalkül und Leidenschaft. Poetik des ökonomischen Menschen
© 2002, diaphanes, Zürich – Berlin
© Издательство Института Гайдара, 2022
* * *Предисловие
Хозяйство арапешейКогда новогвинейский папуас из племени арапешей выходит из своей хижины, его взгляд останавливается на нескольких кокосовых и бетелевых пальмах, которые ему не принадлежат. Он не притронется к их плодам. Он попробует их лишь с позволения владельца или лица, которому владелец предоставил на это особое право. Свиньи перед входной дверью, которых кормит его жена, также принадлежат одному из его или ее родственников. При этом мы должны знать, что этот мужчина-арапеш обычно живет в двух или трех разных деревнях, в шалашах, в хижинах вблизи охотничьих зарослей или хижинах рядом с его саговыми пальмами, однако значительную часть своего времени проводит и на земле, которой сам не владеет. Временами он охотится в буше своего племянника или шурина, а в собственных угодьях он, в свою очередь, может охотиться только в сопровождении других. Свое саго он получает как из чужих, так и из собственных насаждений. В его доме имеются весьма ценные вещи – большие сосуды, резные тарелки и хорошие копья, которые он, однако, уже передал своим сыновьям, даже если те еще совсем маленькие. Его собственные свиньи находятся далеко отсюда, в других деревнях. Его собственные пальмы разбросаны на три мили в одном и на две мили в другом направлении. Еще дальше отсюда его саговые пальмы; широко и далеко разбросаны и различные его огородные грядки, находящиеся по большей части на земле чужих людей. Мясо, коптящееся над огнем, добыто и передано ему кем-то другим: братом, шурином или племянником – поэтому он имеет право съесть его со своей семьей. Или же это мясо, которое он сам добыл на охоте; в таком случае он коптит его лишь для того, чтобы подарить его кому-то другому, поскольку есть собственную добычу, даже если это крошечная птичка, преступление, на которое идут лишь отверженные (которые сверх того еще и душевнобольные). Даже если дом, в котором он по большей части живет, принадлежит ему самому, столбы и доски в нем взяты из домов других людей, домов, которые были разобраны или покинуты. Дерево, так сказать, одолжено. Поэтому он не станет отпиливать чердачные балки, даже если те чересчур длинные, ведь позднее их используют другие для домов иных габаритов.
В этом мире, который таким или сходным образом описывала Маргарет Мид, а это описание, в свою очередь, интерпретировал Карл Поланьи, имеет место весьма своеобразное распределение вещей, благ, действий и отношений. Отдельное действие кажется разбитым на части и отнесенным к самым разным местам, и даже вещи и изделия лишены элементарных свойств объектов, которыми может владеть тот или иной человек[1]. Они доступны, пригодны к употреблению и полезны лишь потому, что в них пересекаются самые разные притязания и права самых разных лиц и групп. Даже если здесь осуществляются сделки или виды деятельности, которые можно назвать экономическими: возделывание земли, охота, ремесло, потребление, разделение труда между мужчиной и женщиной, то едва ли мы сможем найти такую точку зрения, позволяющую увидеть в них какое-либо хозяйственное единство. События, по видимости, являющиеся частями одного и того же процесса, остаются мозаично фрагментированными, а ситуации, в которых нечто дается и берется, изготовляется и приобретается, чрезвычайно тесно связаны с действиями и опытом совершенно другого рода. Элементы хозяйственного обращения включены в неэкономические институты и отношения, они встроены в контекст родства, брака, религиозных и публичных церемоний, благодаря которым поддерживаются и определяются такие виды деятельности, как производство и обмен. Таким образом, даже если в историях подобного рода и можно увидеть обилие локальных и предметных операций, гарантирующих поддержание жизни людей, лоскутный ковер из этих разнородных ситуаций и видов активности невозможно свести к единому гомогенному экономическому порядку[2].
Такие понятия, как труд и собственность, очевидно, недостаточны, чтобы определять границы вещей и действий, а также отношения людей и предметов. Тем самым этот повседневный мир аборигенов Новой Гвинеи, как представляется, наносит удар сразу по нескольким нашим иллюзиям. Ведь это иллюзия, будто условия экономической жизни складываются или эволюционируют от простых актов к сложным связям, от элементарных отношений к комплексным системам. Материальный и экономический мир упомянутого выше мужчины-арапеша является сложным и комплексным именно в своей повседневности, он отличается тем, что любое простейшее действие, направленное на получение материальных благ, или самый нехитрый обмен распадаются на многообразие социальных, родственных или ритуальных структур и элементов. Пространственное распределение предметов, правила их использования и передача прав характеризуют мир, который столь же упорядочен, сколь и необозрим, однако необозрим он только для взгляда, неспособного проводить те тонкие различения, с помощью которых люди живут и ориентируются в этом порядке вещей. Тут нет какого-либо общего пространства, в котором можно было бы собрать множество объектов, представив его как экономическое. Поэтому рассказ об арапеше развеивает и другую иллюзию. Ведь здесь не происходит ничего, что могло бы соответствовать обладающей внутренней связностью «экономике» или какому-либо «экономическому» опыту. Разумеется, в новогвинейских деревнях имеются торговля и собственность, различные виды производства материальных благ и циркуляция вещей. Однако в них отсутствует или, точнее, просто не существует экономического действия в строгом смысле, отсутствуют вещи, действия и поведенческие модусы, которые именно потому связаны и соотнесены друг с другом, что они являются экономическими. Здесь отсутствует, не существует и даже не предвидится «экономический человек». Эта повседневность сбивает с толку, ибо таких критериев, как обладание и не-обладание, собственность и полезность, труд и присвоение, оказывается недостаточно, чтобы постичь наличие, распределение и циркуляцию материальных предметов.
Понятие экономикиУдивление и сомнение этого рода положили начало работе над предлагаемым сочинением. Они напомнили о том простом обстоятельстве, что экономику, которая уже долгое время определяет самопонимание и судьбу людей Запада, нельзя свести ни к природе вещей, ни к так или иначе толкуемой природе человека. Понятие и предмет экономики исторически ограничены. Лишь начиная с эпохи Просвещения понятие «экономика» стало обозначением для хозяйственных реалий в узком смысле; и лишь в XVII столетии был перейден рубеж, после которого самые разные сведения о человеческом общении, о поведенческих модусах и желаниях, о богатстве и благосостоянии, о политическом правлении и социальных закономерностях соединились в более или менее когерентный конгломерат знаний. Если экономику можно понимать как упорядоченную систему, которая в течение последних столетий охватывает отношения между людьми, между вещами и между людьми и вещами, то данному исследованию должно было предшествовать несколько элементарных вопросов: с какого времени и на каких основаниях можно вообще говорить об экономическом факте? Каково то эмпирическое поле, которому подходит характеристика экономического? Какие события эта экономика считает релевантными и связывает вместе? Какими законами они упорядочиваются и координируются пространственно и темпорально? Какие поведенческие модусы и аффекты при этом считаются желательными, а какие неприемлемыми? Что такое экономическая рациональность? Что представляют собой те правила, в соответствии с которыми организуются процессы обмена и коммуникации, и какой код структурирует сопутствующее им обращение знаков?
Даже если на все эти вопросы невозможно дать удовлетворительных ответов, они открывают нам определенную, ограниченную с двух флангов – как исторически, так и предметно, – область исследования. На одном фланге речь идет о возникновении знания, получившего наименование «политическая экономия». Новое положение дел, сформировавшееся в конце XVII столетия с появлением меркантилистских моделей и камералистских проектов, определяет разветвленные связи между проблемами политического правления, административного управления территориями, богатством и народонаселением и, наконец, проблемами руководства индивидами, их деятельностью, страстями и желаниями. Тем самым преследуется цель достижения «разумного», то есть систематического по форме и исчислимого порядка действительности, но одновременно очерчивается и познавательное поле, в котором взаимодействуют самые разные дисциплины, техники и науки. Под рубрикой политической экономии вопросы, касающиеся улучшения государственных финансов, объединяются с вопросами повышения доходов, вопросы об образовании стоимости – с вопросами воспитания, вопросы демографической и здравоохранительной политики – с вопросами морально-правового порядка (Policey). Политическая экономия позиционировала себя тем самым не только как некая новая предметная область (отказываясь таким образом, например, как от принципов старой, аристотелевской экономики, так и от принципов государственного интереса), но и как обширный конгломерат дискурсов, занимающий центральное положение в культуре Просвещения и включающий в себя политическое, антропологическое, социально-философское и эстетическое измерения. Наконец, на рубеже XVIII–XIX веков – и это другой фланг или граница – это экономическое знание вновь перестраивается. Это связано не только с провалом попыток установления камералистского порядка и не только с той критикой, которой подверглись физиократические теории образования стоимости. И это связано также и не только с возникновением самостоятельной политэкономической дисциплины, эмансипировавшейся от общего комплекса знаний о государстве и управлении и пытавшейся описывать автономные закономерности функционирования хозяйственной системы. Важнее то, что на рубеже XVIII–XIX веков можно зафиксировать фундаментальную смену категорий, с помощью которых анализируются экономические силы, законы обращения богатства и законы его производства. Будь то «труд», «рабочая сила», «производство» или «потребление» – из конфигурации этих понятий в дальнейшем вырисовывается облик экономического человека, из этой конфигурации возникло имеющее чрезвычайно важные последствия знание о работающем и производящем, о живущем и желающем, о потребляющем и самого себя расходующем человеке.
Поэтология знанияЭти изменения определяют историческую рамку, которая полностью согласуется с вехами и рубежами, достаточно известными из исторических описаний развития тех или иных идей и положений. Однако в данной работе речь пойдет не об истории экономических и политических теорий, не об истории ученых мнений и не о различных формах экономического анализа. Даже если политическая экономия понимается как прикладное знание, даже если она таким образом отличается тем, что в равной мере способствует как теории, так и практике, ее историю нужно будет изучать, принимая во внимание тот факт, что она сама впервые конструирует те предметы, к которым обращается. Не существует некой экономической данности самой по себе, которую бы на протяжении столетий исследовали, анализировали, упорядочивали и «все лучше и лучше» понимали с помощью постоянно оптимизируемых категорий и методов. Изменения, которые в XVII столетии привели к возникновению политической экономии, а в начале XIX века к появлению отдельной экономической науки, затрагивают не только внешние контуры экономического знания и его отношение к другим дисциплинам – они проникают вглубь устройства «экономических» объектов. В этом предположении состоит второй исходный пункт данной работы, имеющий методологический характер. Это предположение открывает перспективу, которая связывает появление новых объектов знания и областей познания с формами их изображения. Оно следует тезису, согласно которому любой научный порядок формирует определенные опции изложения и изображения, что в его рамках работают специфические методы, определяющие возможность, зримость, консистенцию и корреляцию его предметов. Эти операции позволяют разглядеть в той или иной форме знания поэтологическую силу, которая неотделима от присущей этой форме воли к познанию, от того способа, каким она охватывает, зондирует и систематизирует область своих собственных объектов. Для этого потребуется своего рода номиналистическая критика истории, не смешивающая устойчивость определенных выражений и тем с понятийной и предметной преемственностью; но одновременно потребуется и тот подход, который можно было бы назвать поэтологией знания, тот заинтересованный взгляд, направленный на методы и правила, согласно которым формируется, обособляется и стабилизирует свой внутренний порядок определенный исторический конгломерат дискурсов. При этом «поэтологию» можно было бы понимать как учение о производстве форм знания, об их жанрах и средствах изложения, учение, морфологически расширяющее родовое понятие и распознающее, например, в какой-нибудь статистической диаграмме, в карте, в перечне или кривой определенные системы правил для организации полей знания. Любое эпистемологическое объяснение связано с тем или иным эстетическим решением. В этом поэтологическом измерении становится очевидной историчность всякого знания, тот факт, что по ту сторону присущих ему форм изложения не существует никаких данностей, которые в некоей нетронутой внешней сфере ждут того, что их откроют и сделают зримыми какие-либо дискурсы, высказывания или экзистенциальные утверждения. Историю знания невозможно свести к историческому описанию его предметов и референтов. Всякое обозначение объекта одновременно осуществляет и дискурсивное управление этим же самым объектом, в процессе которого репродуцируются коды и ценностные установки определенной культуры, систематика и практика соответствующей области знания.
В ходе этого исследования речь пойдет прежде всего о сопоставлении и связях литературных и политэкономических текстов, о том, чтобы соотнести высказывания из первых с высказываниями из вторых и распознать в этом целостный конгломерат знания. Это определяет материал, на который опирается данная работа: широкое распространение политэкономического знания и отражение его текущего состояния в трактатах, наставлениях, еженедельных журналах и справочниках, в вымышленных письмах и диалогах, в философских повествованиях и утопиях; многочисленные заимствования экономических мотивов и фигур мысли в литературных текстах; масштабный обмен идеями между экономикой, естественной историей, антропологией, физикой, медициной и эстетикой. При этом исследование данного положения вещей в меньшей степени направлено на установление связи между историей экономики и литературой, на изложение (пред-) истории политической экономии, на литературно-социологическое исследование системы буржуазной литературы или на выявление случаев обсуждения экономических вопросов в художественной литературе. Как представляется, здесь уместна некоторая осмотрительность, приучающая к тому, чтобы локализировать предметы знания не в референтах высказываний, а в тех способах высказывания, которые делают их возможными. Поэтому литература и экономика не рассматриваются в качестве неразрывных единств или отграниченных дискурсивных полей. Скорее они принадлежат к одному порядку знания, который, например, проявляется как в «Агатоне» Виланда или в утопии де Вольмара из «Новой Элоизы» Руссо, так и в «Таблицах» физиократов или в каком-нибудь камералистском трактате.
Знание и литератураЭто ни в коей мере не подразумевает намерения нивелировать различия между поэзией и наукой, знаниями и вымыслом или зафиксировать некое стабильное и окончательно установленное отношение между наукой, знанием и литературой. Возможность связи литературы и экономики (или определенных полей знания вообще) не заключается в каком-то зеркальном отражении, она не заключается ни в ситуации отображения, ни в связи текста и контекста или в отношении между содержанием и формой. Соединение «литературы» и «экономики» скорее преследует здесь цель соотнести друг с другом субстрат знания, присутствующий в поэтических жанрах, и поэтическое проникновение в формы знания, удерживая их тем самым в среде их историчности. В этой связи стоит напомнить замечание, сделанное Жилем Делезом по поводу работ Мишеля Фуко: «Существеннейшая черта „Археологии“ заключается не в том, что ее автору удалось преодолеть научно-поэтическую двойственность… Главное ее достоинство состоит в открытии и размежевании тех новых сфер, где и литературный вымысел, и научная пропозиция, и повседневная фраза, и шизофреническая бессмыслица и многое другое являются в равной мере высказываниями, хотя и несравнимыми, несводимыми друг к другу и не обладающими дискурсивной эквивалентностью. Как раз этого пункта никогда не удавалось достичь ни логикам, ни формалистам, ни толкователям. И наука, и поэзия являются в равной степени знанием»[3]. Здесь следует обратить внимание на конфигурацию знания, которое, с одной стороны, не заключено в дисциплинах и науках, а с другой – не обладает характером всего лишь знания жизненного мира, которое, возможно, до-понятийно, но не до-дискурсивно, которое кажется одновременно и связным, и рассеянным и проходит через различные виды текстов и дискурсов. Это знание является той средой, в которой становятся возможными как дискурсивные предметы, так и говорящие о них субъекты, оно представляет собой область формулирования правил координации и субординации высказываний, пространство, предшествующее проведению границ между специальностями, дисциплинами и науками[4]. «Знание», стало быть, не есть ни наука, ни познание, скорее оно требует поиска оперативных факторов и тем, возвращающихся на различные территории, занимающих на них ту или иную определенную конститутивную позицию, не предполагая, однако, при этом какого-либо единства и синтеза предмета. А следовательно, это знание было бы областью, в которой корреспондируют несравнимые друг с другом модусы речи, формы выражения и типы текстов.
Если поэтология знания начинается не с истины высказываний, а с методов и правил, делающих возможными определенные высказывания, то и отношение (литературных) текстов и знания нельзя сводить к сюжетам и мотивам или к серии предикаций и актов референции. Любой литературный текст оказывается скорее компонентом порядков знания, поскольку он продолжает, подтверждает, корректирует или сдвигает границы зримого и незримого, вербально выразимого и невыразимого. Литературный текст и знание отнюдь не находятся друг с другом в каком-либо предсказуемом и окончательно установленном отношении, их связь скорее возникает в некоем неоднозначном модусе несоразмерности. Литература сама представляет собой специфическую форму знания, например, там, где она стала особенным органом и медиумом таких единств, как произведение или автор; литература является и предметом знания, например, там, где она инициировала особый вид комментирования и создала возможность своеобразного говорения о говорении; литература является функциональным элементом знания, например, там, где она, как в духовно-исторической традиции, каким-то совершенно уникальным образом заполняет поле творческой субъективности; и наконец, литература продуцируется порядком знания, например, там, где ее язык, как никакой другой, кажется способным сказать то, в чем невозможно сознаться, сформулировать самое сокровенное, пролить свет на невыразимое.
Впрочем, трудно не заметить, что начиная с XVIII века экономика и литература (и эстетическое поле вообще) обращаются к ряду общих тем; это и знаменитые робинзонады в политической экономии, над которыми позднее будет иронизировать Маркс и которые ввели нарративную структуру в анализ образования стоимости; это и роль денег, которые, скажем, в сентименталистской драме дополняли зримые взаимоотношения на подмостках незримыми коммуникациями и зависимостями. Но наряду с очевидными связями такого рода есть и некоторые другие проблемные ракурсы, размещающие экономическую и эстетическую сферу в некоем общем пространстве и дирижирующие соответствующими формами репрезентации. В XVIII столетии это вопрос о случайностях и контингентных событиях, обращающийся к определенным правилам связывания разнородных событийных серий и их наглядной репрезентации; это семиотические вопросы, которые на основании репрезентативной силы знаков оплаты и слов языка устанавливают их аналогичную образную структуру; это концепции суверенитета личности, благодаря которым, например, в театре эпохи Просвещения можно выявить общественно-теоретический субстрат, а в социальном действии – театральную логику; и наконец, это зондирование законов движения, которые в различных областях – физической, физиологической, естественно-исторической, экономической – консолидируются в циркуляционные модели. Проблемные ракурсы такого рода позволяют наблюдать порядок, границы и изменение пространства знания, высказывания которого могут преобразоваться в научную теорию (например, расчета вероятностей), в политэкономическую программу (скажем, в камералистской энциклопедии) или в литературно-художественный жанр (например, в роман воспитания). При всем этом важно, что различные жанры, дисциплины и формы изложения невозможно свести к общему знаменателю; а также то, что от механизмов их взаимодействия и резонанса решающим образом зависит эффективность того или иного порядка знания. В конечном счете поэтология экономического знания исследует распространение, взаимодополнительность, пересечение и взаимное укрепление фигур экономической и эстетической рефлексии, а тем самым стабилизацию горизонта знания, ценностные установки и фантазмы которого обрели мифопоэтическую действенность: «Tout se résume dans l’Esthétique et l’Économie politique»[5].
План работыЭта двойная – как историко-предметная, так и методологическая – перспектива определяет композицию и структуру предлагаемой работы. Так, в первой, вводной, главе рассматриваются некоторые основополагающие фигуры политического знания начиная с XVII столетия. В том, что именовалось «политическим телом», мы обнаруживаем своеобразную дихотомию между репрезентативной конструкцией суверенного государственного лица, с одной стороны, и политической эмпирией – с другой. В то время как новоевропейские теории естественного права и общественного договора заняты формулированием логики репрезентации, связывающей учреждение политического порядка с личностью, представительным характером и persona ficta[6] суверена, признавая наличие здесь моментов театральности, на другом фланге речь идет о сциентизации политики, в ходе которой совокупные силы государств и стран, населения и территорий изображаются по физическим или физиологическим моделям. Стало быть, мы можем в духе Эрнста Канторовича говорить о «двух телах государства»; а из этого вытекает дуальность типов событий и форм вмешательства, различные способы изображения которых рассматриваются в следующих главах. Так, во второй главе речь идет прежде всего о некоторых элементах театральной поэтики Просвещения. На примере учений о симпатии и поэтики сострадания исследуется вопрос, как неосознанные сцепления, случайные события и сложные взаимозависимости могут указывать на состояние договорных, репрезентативных и персональных отношений, создавая ситуацию, позволяющую говорить о «театре общественного договора». В третьей главе в центре внимания оказываются проблемы управления контингентностью. С оглядкой на теорию вероятностей, на проблемы экономического управления и на поэтику и практику просвещенческого романа ставится вопрос о том, исходя из чего может быть обоснован и описан провиденциальный порядок контингентных событий. Четвертая глава посвящена нескольким фундаментальным изменениям, произошедшим в экономическом знании на рубеже XVIII–XIX веков: трансформации старых циркуляционных моделей в контуры регулирования, возникновению концепций саморегулирования, формулированию теорий общедоступного кредита. Именно в романтизме и в «романтической экономике» эти модели ведут к реформированию управленческих идей и семиозисам, переводящим динамические процессы в стабильные структуры и согласующим фигуру политического тела с понятием живого организма. Исходя из этого положения, в пятой – и последней – главе рассматривается еще один сюжетный поворот: рождение экономического человека, рождение желающего, трудящегося, производящего и потребляющего субъекта, изображение которого в конечном счете размыкает определенные границы самой литературной репрезентации.
Глава 1. Тела политики
1. Государство-театр
Театральное призваниеТеатральные призвания являются одновременно и политическими, а эти последние, соответственно, химерическими. Так, стремление Вильгельма Мейстера к сцене, его посвящение в актеры кукольного театра, в театрала и, наконец, в исполнителя роли Гамлета не просто сводит воедино освободительную идею, изображение публичной сферы и индивида, желающего достичь гармонического совершенства своей натуры. Скорее сам театр включает в себя модель общества, на несколько мгновений становящегося лучше и благороднее в ходе игры на сцене и игры после игры, праздника за и между кулисами[7]. В романе Гёте мотив и педагогический план создания национального театра оказываются в тени театральной концепции, реализующей ряд социально-функциональных определений и расширяющей пространство сцены до всемирного театра; театральный эксперимент Мейстера оказывается образцовой площадкой для обсуждения вопросов собственности и договорных отношений, конфликта между феодальной и буржуазной формами социализации. Наряду с очевидной программой образования, всеобъемлющего «формирования личности», этот театр претендует на создание пространства, в котором индивиды не только существуют, но и «показывают себя», пространства, в которое они переносятся в качестве представителей самих себя и в котором они – как «лица общественные» – ищут сколь фиктивное, столь и нормативное основание своего социального общения[8]. В нем все более настоятельным становится обращение к маске, апатичному субстрату, который – и это своего рода актерский парадокс – проникает в собственное бытие индивидов и обязывает их «играть естественнее, не переставая притворствовать»[9]. При этом речь отнюдь не идет о какой-то перфекционистской иронии, когда – в одиннадцатой главе пятой книги – Вильгельм Мейстер в роли Гамлета сталкивает обе стороны, чужую роль и свое собственное искреннейшее возбуждение, играя, выпадает из роли и тем самым только еще более уверенно ею овладевает. Поскольку он не уверен в том, видит ли он маски или лица, показывает ли он сам маску или лицо, то при появлении призрака – чей незнакомый голос, искаженный тем, что раздается из-под «забрала», звучит как все более знакомый, – он испытывает противоречивые чувства, влекущие его в противоположных направлениях; теперь он оказывается одновременно и на сцене, и перед ней: «Пока длился рассказ призрака, он так часто менял место, казался таким неуверенным и смущенным, внимательным и рассеянным, что своей игрой вызвал всеобщее восхищение, как призрак – всеобщий ужас»[10]. Таким образом, преодолевая на сцене свое бюргерское «смущение» и, в свою очередь, вновь испытывая его уже в качестве исполнителя роли, говоря одновременно и своим собственным, и чужим голосом, представляя себя здесь и сейчас, а в роли Гамлета неожиданно и последовательно приходя к тому, что он самого себя инсценирует, Вильгельм Мейстер следует поэтике спектакля, в которой сцена и игра одновременно демонстрируют и двойное основание, на котором выстраиваются бюргерские идентичности и их репрезентативная взаимосвязь, подчиненные императиву – казаться тем, что мы есть, и стать тем, чем мы кажемся.