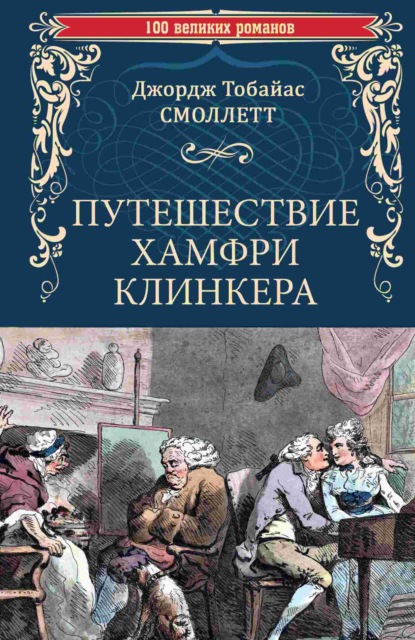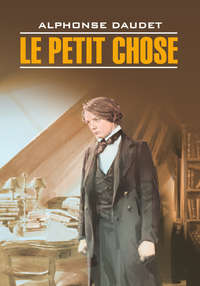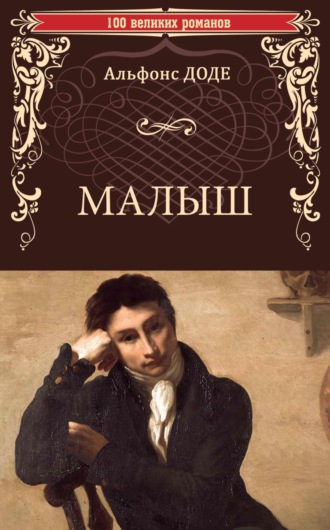
Полная версия
Малыш
Это была очень веселая школа! Вместо того чтобы набивать нам головы греческими и латинскими словами, как в других учебных заведениях, нас учили служить заобедней, петь антифоны[5], класть земные поклоны и красиво кадить, что, собственно, очень нелегко. Правда, иногда несколько часов посвящалось склонениям и сокращенной священной и всеобщей истории, но все это были лишь побочные занятия. На первом месте стояло обучение церковной службе. Раза два в неделю, не реже, аббат Мику торжественно объявлял нам между двумя понюшками табаку: «Завтра, господа, утренние уроки отменяются, мы на похоронах».
На похоронах! Какое счастье! Кроме того, бывали еще крестины, свадьбы, приезд в школу его преосвященства, причащение больного. О, это предсмертное причастие! Как гордились те из нас, кто участвовал в перенесении св. чаши!.. Священник шел под красным бархатным балдахином, неся в руках чашу со св. дарами. Двое маленьких певчих поддерживали балдахин, двое других шли по обеим сторонам с большими золочеными фонарями в руках. Пятый шел впереди, размахивая трещоткой. Обычно это было моей обязанностью. По пути следования св. даров мужчины снимали шляпы, женщины крестились. Когда проходили мимо гауптвахты, часовой кричал: «Под ружье!» Солдаты сбегались и выстраивались. «На караул!» – командовал офицер… Ружья бряцали, барабаны били… Я трижды потрясал своей трещоткой, как при Sanctus’e[6], и мы двигались дальше.
Да, это была веселая школа! У каждого из нас хранилось в маленьком шкафчике полное облачение церковного служителя: черная с длинным шлейфом ряса, пелерина, стихарь с широкими туго накрахмаленными рукавами, черные шелковые чулки, две камилавки – одна суконная, другая бархатная – и брыжжи, обшитые мелкими белыми бусами, – словом, все, что требовалось.
Костюм этот был мне, по-видимому, к лицу. «Он в нем такой милашка», – говорила госпожа Эйсет.
К несчастью, я был очень мал ростом, и это приводило меня в отчаяние. Представьте себе, что, даже приподнявшись на цыпочки, я был не выше белых чулок Калюффа, нашего швейцара; к тому же, я был очень тщедушен… Однажды за обедней, перенося евангелие с одного места на другое, я упал под тяжестью этой книги и растянулся на ступеньках алтаря. Аналой сломался, служба была прервана. Это было в Троицын день. Какой скандал!.. Но, помимо этих незначительных неудобств, сопряженных с моим маленьким ростом, я был очень доволен своей судьбой, и часто, ложась вечером спать, мы с Жаком говорили друг другу: «А ведь это очень веселая школа!» К несчастью, нам недолго пришлось пробыть там: друг нашей семьи, ректор одного из южных университетов, написал моему отцу, что если он хочет получить стипендию для одного из своих сыновей в Лионском коллеже, то это можно будет устроить.
– Мы поместим туда Даниэля, – сказал господин Эйсет.
– А Жак? – спросила мать.
– Жак? Я оставлю его при себе. Он будет моим помощником. Тем более что я замечаю в нем склонность к торговле. Мы сделаем из него коммерсанта.
Совершенно не понимаю, на каком основании господин Эйсет решил, что Жак имеет пристрастие к торговле?! В те времена бедный мальчик имел только одно пристрастие – к слезам, и если бы его спросили…
Но его, как и меня, не спросили ни о чем.
Когда я пришел в коллеж, мне прежде всего бросилось в глаза то, что среди учеников я был единственный в блузе. В Лионе дети богатых людей в блузах не ходят. Их носят одни только уличные мальчишки. На мне же была простенькая клетчатая блузка, сшитая еще во время моего пребывания на фабрике. Значит, у меня был вид уличного мальчишки… При моем появлении в классе ученики захихикали: «Смотрите! Он в блузе!!» Учитель скорчил гримасу, и с этого момента он невзлюбил меня. Он говорил со мною каким-то пренебрежительным тоном, никогда не называя меня по имени: «Эй, вот вы там… малыш…» А между тем я раз двадцать повторял ему, что меня зовут Даниэлем Эй-се-том… В конце концов мои товарищи тоже стали называть меня Малышом, и это прозвище так и осталось за мной. Проклятая блуза!
Но не одна только блуза отличала меня от других детей… У всех у них были красивые сумки из желтой кожи, чернильницы из душистого букса, тетради в толстых переплетах. Книги у них были новенькие, с примечаниями внизу страниц, а у меня старые, подержанные, купленные у букинистов, покрытые плесенью, пахнувшие гнилью; корешки были всегда разорваны, и порой в них не хватало многих страниц. Жак старательно переплетал их с помощью картона и клейстера, но последним он чересчур злоупотреблял, отчего все они отвратительно пахли. Он смастерил мне также сумку с бесчисленными отделениями, очень удобную, но опять-таки злоупотребил клеем. Потребность клеить и переплетать превратилась у Жака в какую-то манию, как и его привычка плакать. Перед нашей печкой всегда красовалось множество маленьких горшочков с клеем, и, как только ему удавалось убежать из магазина, он клеил и переплетал. В остальное время он разносил по городу пакеты, писал под диктовку, ходил за провизией, словом, занимался «коммерцией».
А я… я скоро понял, что если вы стипендиат, носите блузу и называетесь Малышом, то вам нужно работать вдвое больше, чем другим, для того чтобы с ними сравняться. И Малыш действительно мужественно принялся за работу.
Молодец Малыш! Я вижу его зимой в нетопленной комнате, сидящим с закутанными в одеяло ногами за рабочим столом. На дворе мелкий снег бьет по стеклам окон; из магазина доносится голос господина Эйсета, диктующего:
«Я получил ваше почтенное письмо от 8‐го этого месяца».
И слезливый голос Жака, повторяющий:
«Я получил ваше почтенное письмо от 8‐го этого месяца».
Иногда дверь тихонько отворялась, и в комнату входила госпожа Эйсет. Она на цыпочках подходила к Малышу. Тсс!..
– Работаешь? – спрашивала она вполголоса.
– Да, мама.
– Тебе не холодно?
– О, нет!
Малыш лгал: ему было очень холодно. Тогда госпожа Эйсет садилась около него со своим вязаньем и сидела так часами, считая шепотом петли и по временам глубоко вздыхая.
Бедная госпожа Эйсет! Она постоянно думала о своих родных краях, которые не надеялась больше увидеть. Увы! На свое и на наше несчастье, ей суждено было очень скоро увидеть их…
Глава III
Он умер, молитесь за него!
Это было в понедельник, в июле месяце.
Выйдя из коллежа, я дал соблазнить себя игрой в горелки, а когда решился, наконец, пойти домой, то оказалось, что час был гораздо более поздний, чем я предполагал. Всю дорогу, от площади Терро до улицы Лантерн, я бежал, не останавливаясь, с книгами за поясом и шапкой в зубах. Но так как я страшно боялся отца, то на лестнице остановился на минуту передохнуть и придумать какую-нибудь историю, чтобы оправдать мое опоздание. Затем я храбро позвонил.
Дверь мне отворил сам господин Эйсет.
– Как ты поздно! – сказал он.
Дрожа от страха, я начал выкладывать свою ложь, но он не дал мне кончить и, прижав меня к груди, молча поцеловал долгим поцелуем.
Я ожидал по меньшей мере строжайшего выговора, а потому такая встреча меня удивила. Первой моей мыслью было, что у нас обедает священник из церкви Сен-Низье, так как я по опыту знал, что в такие дни меня никогда не бранили. Но, войдя в столовую, я увидел, что ошибся. На столе было только два прибора: мой и отца.
– А мама? А Жак? – спросил я с удивлением.
– Мама и Жак уехали, Даниэль. Твой брат, аббат, очень болен, – сказал Эйсет непривычно мягким для него голосом.
Но, заметив, что я побледнел, он, чтобы успокоить меня, прибавил почти весело:
– Это я только так сказал очень болен; в действительности же нам сообщили только, что он в постели. Но ведь ты знаешь свою мать? Она захотела непременно к нему поехать, и я дал ей в провожатые Жака… В общем, ничего серьезного… А потому садись и будем есть, я умираю от голода.
Я молча сел за стол, но сердце мое сжималось, и я с большим трудом удерживался от слез при мысли, что мой старший брат, аббат, очень болен. Мы грустно по-обедали, сидя друг против друга и не говоря ни слова, отец ел быстро, пил большими глотками, потом внезапно останавливался и о чем-то задумывался… Я же сидел неподвижно на конце стола, точно оцепенев от горя. Я вспоминал все те интересные истории, которые рассказывал мне аббат, когда приезжал к нам на фабрику… Видел, как он отважно приподнимал свою рясу, чтобы перепрыгнуть через бассейн… Мне вспоминалась также его первая обедня, на которой присутствовала вся наша семья. Как он был красив, когда, повернувшись к нам лицом и воздев руки, произносил: «Dominus vobiscum»[7] таким мягким голосом, что госпожа Эйсет плакала от радости!.. И я себе представлял его теперь лежащего в постели, больного, – да, очень больного, я это чувствовал. И что еще больше усиливало мое огорчение, это – угрызения совести, внутренний голос, твердивший мне: «Бог тебя наказывает. Это твоя вина! Нужно было прямо из коллежа идти домой. Не следовало лгать». И, полный страха при мысли, что Бог, чтобы наказать меня, пошлет смерть брату, я в отчаянии говорил про себя: «Я никогда, никогда не буду больше после школы играть в горелки».
После обеда зажгли лампу. Надвигался вечер. Господин Эйсет разложил на скатерти среди остатков десерта свои толстые конторские книги и вслух проверял счета. Кошка Финэ, истребительница тараканов, грустно мяукая, бродила вокруг стола… Я открыл окно и облокотился на подоконник…
Уже совсем стемнело. Было душно… Слышно было, как внизу люди смеялись и болтали, стоя у дверей своих домов; издалека, с форта Луаяс, слабо доносился барабанный бой… Прошло несколько минут. Я не двигался с места и, глядя куда-то в темноту, предавался грустным мыслям, как вдруг резкий звонок оторвал меня от окна. Я с ужасом взглянул на отца, и мне показалось, что на его лице промелькнуло выражение такого же мучительного волнения и страха, какие охватили в эту минуту меня. Этот звонок испугал и его.
– Звонят!.. – сказал он мне почти шепотом.
– Останьтесь, папа! Я отворю сам… – И я бросился к двери.
На пороге стоял какой-то человек. Я с трудом разглядел его в темноте. Он протягивал мне что-то, чего я не решался взять…
– Телеграмма! – сказал он.
– Телеграмма? Боже! Что это значит?..
Я взял ее, дрожа от волнения, и собирался уже захлопнуть дверь, но мужчина придержал ее ногой и холодно сказал:
– Нужно расписаться.
Расписаться! Я этого не знал. Это была первая телеграмма в моей жизни.
– Кто это там, Даниэль? – закричал господин Эйсет дрожащим голосом.
– Так… нищий, – ответил я и, сделав человеку знак подождать меня, побежал в свою комнату, ощупью обмакнул перо в чернильницу и вернулся обратно.
– Распишись вот здесь, – сказал почтальон. Дрожащей рукой, при свете горевших на лестнице ламп, Малыш расписался; потом запер дверь и вошел в столовую, спрятав телеграмму под блузу.
Да, я спрятал тебя под блузой, тебя, вестницу несчастья! Я не хотел, чтобы господин Эйсет увидел тебя, так как заранее знал, что ты принесла нам что-то страшное, и потому, когда я потом распечатал тебя, ты не сказала мне ничего нового. Слышишь, телеграмма?! Ты не сказала мне ничего такого, чего мое сердце не угадало заранее…
– Это был нищий? – спросил отец, пристально глядя на меня.
– Да, нищий, – ответил я не краснея.
И, чтобы рассеять его подозрения, снова занял мое место у окна.
Я просидел так некоторое время, не произнося ни слова, не двигаясь, прижимая к груди эту бумажку, которая меня жгла.
Я старался хладнокровно рассуждать, успокаивал себя, говоря: «Как знать? Может быть, это добрая весть. Может быть, пишут, что он выздоровел…» Но в глубине души я ясно чувствовал, что это неправда, что я лгал себе самому, что телеграмма не сообщит нам о выздоровлении брата.
Наконец я решился пойти в свою комнату, чтобы узнать всю правду. Не спеша, медленными шагами вышел я из столовой, но, очутившись у себя, с лихорадочной поспешностью бросился зажигать лампу. Как дрожали мои руки, распечатывая эту вестницу смерти, и какими жгучими слезами обливал я ее, когда, наконец, распечатал!!
Я двадцать раз перечел ее в надежде, что ошибся, – но, увы! Сколько я ее ни перечитывал и ни переворачивал, ища в ней какого-то иного смысла, я не мог заставить ее сказать ничего другого, кроме того, что она мне сказала и что я заранее знал:
«Он умер. Молитесь за него!»
Сколько времени я простоял так, плача перед раскрытой телеграммой, – не знаю. Помню только, что глаза мои горели и что я долго их промывал, прежде чем выйти из комнаты. Потом я вернулся в столовую, держа в своей маленькой, судорожно сжатой руке трижды проклятую телеграмму.
Что мне было делать? Как объявить ужасную весть отцу?.. Какое непростительное ребячество заставило меня скрыть это от него? Немного позже, немного раньше, – разве он не узнал бы? Какое это было безумие! По крайней мере, если бы я отдал ему телеграмму сразу же, как только ее принесли, мы вместе распечатали бы ее, и теперь все было бы уже кончено.
Мучимый этими вопросами, я подошел к столу и сел около отца. Бедняга только что закрыл свои конторские книги и бородкой пера щекотал белую мордочку Финэ. Сердце сжалось у меня при виде этого. Доброе лицо отца, слабо освещенное лампой, порой оживлялось, он улыбался, и мне хотелось крикнуть: «О, нет, нет! Не смейтесь, пожалуйста, не смейтесь!!»
И вот, в то время как я грустно смотрел на него, сжимая в руке телеграмму, господин Эйсет неожиданно поднял голову, и наши взгляды встретились. Не знаю, что он прочел в моих глазах, знаю только, что лицо его внезапно исказилось, из груди его вырвался громкий крик, и душу раздирающим голосом он спросил меня: «Он умер?.. Да?..» Телеграмма выскользнула у меня из рук, рыдая, бросился я ему на шею, и мы долго, долго плакали, сжимая друг друга в объятиях, а у наших ног Финэ играла с телеграммой, с этой ужасной вестницей смерти, причиной всех наших слез!..
Верьте мне – я не лгу. Все это было давно, очень давно. Мой дорогой аббат, которого я так любил, давно уже спит в сырой земле… Но и теперь еще, всякий раз, когда я получаю телеграмму, я без дрожи ужаса не могу ее распечатать. Мне все представляется, что я прочту в ней: «Он умер! Молитесь за него!»
Глава IV
Красная тетрадь
В старинных требниках встречаются наивные, раскрашенные картинки, на которых Богоматерь изображена с глубокой морщиной на каждой щеке – божественным шрамом, которым художник как бы хочет сказать: «Посмотрите, как она плакала!!» Такую морщину – морщину слез, я увидел на похудевшем лице госпожи Эйсет, когда она, похоронив своего сына, вернулась в Лион.
Бедная мать! С этого дня она больше не улыбалась. Платья она носила теперь только черные, с лица ее не сходило выражение глубокой скорби. Себя и свое сердце она облекла в глубокий траур, который уже никогда больше не снимала… В остальном в доме Эйсетов все осталось по-прежнему. Стало только немного более мрачно, вот и все. Священник церкви Сен-Низье отслужил несколько обеден за упокой души аббата, детям из старой блузы отца выкроили два черных костюма, и жизнь, печальная жизнь, потекла по-прежнему.
Прошло порядочно времени со смерти нашего дорогого аббата, когда однажды вечером (мы уже собирались ложиться спать) я с удивлением увидел, что Жак запер нашу дверь на ключ, старательно заткнул в ней все щели и направился ко мне с торжественным и вместе с тем таинственным видом.
Нужно сказать, что после возвращения с юга в привычках нашего друга Жака произошла удивительная перемена. Во-первых, – но этому вряд ли кто поверит, – он больше не плакал или почти не плакал; во-вторых, его любовь к картонажному искусству почти совсем прошла. Маленькие горшочки с клеем время от времени еще придвигались к огню, но уже без прежнего увлечения, и теперь, когда нужна была какая-нибудь папка, приходилось молить о ней Жака чуть ли не на коленях… А картонка для шляп, уже более недели назад заказанная госпожой Эйсет, все еще не была закончена!.. Домашние этого не замечали, но я видел, что с Жаком творилось что-то странное. Несколько раз я заставал его в магазине; он разговаривал сам с собою и энергично жестикулировал. По ночам он не спал; я слышал, как он что-то бормотал сквозь зубы, потом вдруг вскакивал с постели и принимался расхаживать большими шагами по комнате… Все это было неестественно и пугало меня. Мне казалось, что Жак сходит с ума.
И в этот вечер, когда я увидел, что он запирает нашу дверь на ключ, мысль о сумасшествии снова пришла мне в голову, и на минуту мне стало страшно… Но бедный Жак не заметил моего испуга и торжественно, взяв мою руку в свои, проговорил:
– Даниэль, мне нужно сделать тебе одно признание, но прежде поклянись, что ты никогда никому об этом не скажешь.
Я сразу понял, что Жак не был сумасшедшим, и, не колеблясь, ответил:
– Клянусь тебе, Жак.
– Так вот! Ты ничего не знаешь?.. Тсс!.. Я сочинил поэму, большую поэму…
– Поэму, Жак?! Ты сочиняешь поэму, – ты!? – Вместо ответа Жак вытащил из-под куртки огромную красную тетрадь, переплетенную им самим, на которой было написано его прекрасным почерком:
«Религия! Религия!»
ПОЭМА В ДВЕНАДЦАТИ ПЕСНЯХ
Сочинения Эйсета (Жака)
Это было так грандиозно, что у меня закружилась голова.
Подумайте только!.. Жак, мой брат Жак, тринадцатилетний мальчик, вечно рыдавший и возившийся с горшочками клея, Жак сочиняет поэму в двенадцати песнях: «Религия! Религия!»
И никто не подозревал этого! И его продолжали посылать с большой корзиной в руках к зеленщикам за овощами! И отец чаще, чем прежде, кричал ему: «Жак, ты осел!»
О, бедный, милый Эйсет (Жак)! С какой радостью бросился бы я вам на шею, если бы только смел! Но я не смел… Подумайте только: «Религия! Религия!» Поэма в двенадцати песнях!.. Однако справедливость заставляет меня сказать, что эта поэма в двенадцати песнях была далеко не окончена. Мне кажется даже, что готовы были только четыре первых стиха первой песни. Но вам ведь известно, что в работе этого рода самое трудное – начало, и Эйсет (Жак) имел полное основание сказать, что «теперь, когда мои первые четыре стиха… готовы, – все остальное пустяки, вопрос времени»[*].
[*] Вот они, эти четыре стиха, поразившие меня в тот вечер и переписанные прекрасным рондо на первой странице красной тетради:
«Вера! Религия! Вера! Тайна!
Чудесное слово!
Глас небесного зова!
Милость, о милость без меры!»
Не смейтесь над этими строками. Они стоили ему больших усилий.
Увы, это «остальное», которое было только «вопросом времени», Эйсет (Жак) никогда так и не мог закончить… Что поделаешь? У каждой поэмы своя судьба, и, по-видимому, судьба поэмы в двенадцати песнях «Религия! Религия!» заключалась именно в том, чтобы в ней никогда не было этих двенадцати песен! Несмотря на все свои усилия, поэт так и не пошел дальше первых четырех стихов. В этом было что-то роковое. В конце концов несчастный мальчик, потеряв терпение, послал свою поэму к черту и отпустил на все четыре стороны свою Музу (в то время еще говорили: Муза). В этот самый день возобновились его рыдания и маленькие горшочки с клейстером снова появились перед огнем… А красная тетрадь?.. У красной тетради тоже была своя судьба. «Я отдаю ее тебе, – сказал мне Жак. – Сделай с ней все, что тебе вздумается…» И знаете, что я с ней сделал? Я исписал ее своими стихами, черт возьми, – стихами Малыша! Жак заразил меня своим недугом.
А теперь, пока Малыш подбирает свои рифмы, мы – если читатель не будет иметь ничега против – перешагнем через четыре или пять лет его жизни. Мне хочется поскорее добраться до весны 18… года, память о которой до сих пор свежа в доме Эйсет. Такие незабываемые даты существуют во всех семьях.
К тому же этот период моей жизни, о котором я здесь умалчиваю, не представляет большого интереса для читателя. Это была старая песня: слезы и нищета, неудачи в делах, запоздалые платежи за квартиру, кредиторы, устраивающие сцены; бриллианты матери и серебро, заложенные в ломбарде; дыры на простынях, панталоны в заплатах, всякого рода лишения, ежедневные унижения, вечный вопрос о завтрашнем дне, дерзкие звонки судебных приставов, швейцар, который улыбается, когда мимо него проходят… А потом эти займы, опротестованные векселя, а потом… а потом…
И вот мы уже в 18… году.
В этом году Малыш заканчивал курс.
Это был, если память не изменяет мне, юноша с большими претензиями, всерьез считавший себя философом и поэтом, ростом же не выше сапога и без единого волоса на подбородке.
И вот однажды утром, когда этот великий философ-Малыш собирался уже идти в школу, Эйсет-отец позвал его в магазин и, как только он вошел туда, сказал ему резким голосом:
– Брось свои книжки, Даниэль, – ты не пойдешь больше в коллеж.
Заявив это, Эйсет-отец принялся расхаживать по магазину, не говоря ни слова. Он был, видимо, очень взволнован, и Малыш тоже, – могу вас в этом уверить… После долгого молчания Эйсет-отец опять заговорил.
– Даниэль, мой мальчик, – сказал он, – я должен сообщить тебе неприятную новость… да, очень неприятную… Нам придется расстаться друг с другом и вот почему…
Но в эту минуту громкое, душу раздирающее рыдание раздалось за неплотно затворенной дверью.
– Жак, ты осел! – не повертывая головы закричал господин Эйсет и потом продолжал:
– Когда шесть лет назад, разоренные революционерами, мы приехали в Лион, я надеялся, что упорным трудом смогу восстановить наше потерянное состояние. Но тут вмешался дьявол, и я только еще глубже, по самую шею влез в долги и в нищету… Сейчас все кончено, мы окончательно увязли… Чтобы выкарабкаться из беды, нам остается только одно: продать то немногое, что еще осталось, и, поскольку вы оба уже взрослые, начать – каждому из нас по-своему – самостоятельную жизнь.
Новое рыдание невидимого Жака прервало господина Эйcета, но он сам был так взволнован, что на этот раз не рассердился и только сделал знак Даниэлю, чтобы тот закрыл дверь, и затем продолжал:
– Вот что я решил: впредь до нового распоряжения твоя мать отправится на юг к своему брату, дяде Батисту. Жак останется в Лионе, он получает здесь место в ломбарде. Я буду работать коммивояжером в Обществе виноделов… И тебе тоже, мое бедное дитя, придется самому зарабатывать свой хлеб… Я как раз только что получил письмо от ректора, в котором он предлагает тебе место репетитора в коллеже. Вот, прочти. – Малыш взял письмо.
– Насколько я могу судить, – сказал он, не переставая читать, – я должен ехать не теряя времени…
– Да, придется выехать завтра же.
– Хорошо, я поеду.
Сказав это, Малыш сложил письмо и твердой недрогнувшей рукой вернул его отцу. Как видите, это был большой философ.
В эту минуту в магазин вошла госпожа Эйсет, а за ней робко следовал Жак… Они оба подошли к Малышу и молча его поцеловали; они уже со вчерашнего дня знали обо всем.
– Уложите его вещи, – резко проговорил господин Эйсет, – он поедет завтра утром с первым пароходом.
Госпожа Эйсет глубоко вздохнула, из груди Жака вырвался какой-то намек на рыдание, и это было все. В нашем доме начинали уже привыкать к несчастьям.
На следующий день после этого незабываемого вечера вся семья проводила Малыша на пароход. По странному совпадению, это был тот самый пароход, который шесть лет тому назад привез в Лион семью Эйсет. Капитан Женьес, старший повар Монтелимар!.. Разумеется, вспомнили и о дождевом зонтике Анну, и о попугае Робинзона, и о некоторых других эпизодах, имевших место во время высадки… Эти воспоминания несколько оживили печальный отъезд и вызвали на губах госпожи Эйсет слабое подобие улыбки.
Но вот раздался звон колокола. Надо было уезжать.
Малыш вырвался из объятий своих друзей и храбро взошел по мостику на пароход.
– Будь благоразумен! – крикнул ему вслед отец.
– Не хворай! – проговорила госпожа Эйсет. Жак хотел что-то сказать, но он так плакал, что не мог произнести ни слова.
Малыш же не плакал, нет! Как я уже имел честь доложить вам, это был большой философ, а философам не полагается показывать, что они растроганы.
А между тем один Бог знает, как он любил эти дорогие ему существа, которых он оставлял там, за собою, в утреннем тумане! Знает Бог, как охотно отдал бы он за них свою жизнь… Но что поделаешь! Радость покинуть Лион, движение парохода, прелесть путешествия, гордость от сознания, что он уже взрослый, свободный, самостоятельный человек, который путешествует один и зарабатывает свой хлеб, – все это опьяняло Малыша и мешало ему долго останавливаться на мысли о трех дорогих ему существах, рыдавших там, на набережной Роны…
О, они не были философами, эти трое! Взглядом, полным глубокой тоски и нежности, они долго следили за астматическим ходом судна, и когда черный султан его дыма казался уже только маленькой ласточкой на горизонте, они все еще кричали: «Прощай! Прощай!» и махали платками.