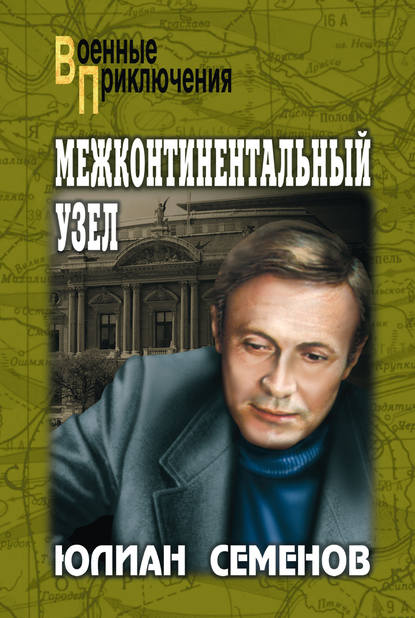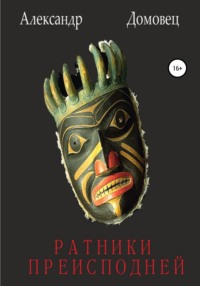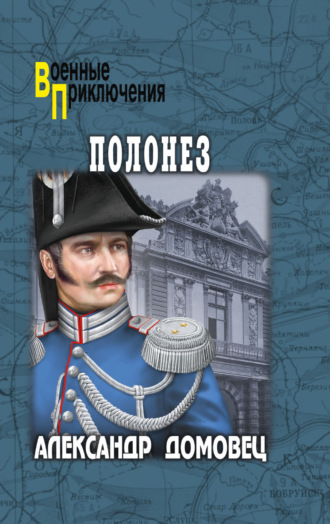
Полная версия
Полонез
Добавим, что мало-помалу штаб-квартира Комитета стала неофициальным эмигрантским центром. Таким, что ли, клубом. Здесь изо дня в день собирались, обсуждали вести из Польши, спорили и переругивались, пили чай или кофе, курили трубки, со слезами на глазах слушали полонез Огинского, прекрасно исполняемый на фортепьяно панной Беатой, – словом, общались эмигранты, поддерживавшие Комитет.
Французское правительство давало приют польским революционерам отчасти в пику России, отчасти в угоду общественному мнению, которое горячо поддерживало разбитых повстанцев. Да и как иначе могло быть в стране, где за последние полвека революция стала нормой жизни, а свержение монархов – рутиной. От Людовика Шестнадцатого к Наполеону, от Людовика Восемнадцатого к Карлу Десятому. А теперь правил и вовсе король-гражданин, буржуазный самодержец Луи-Филипп, ничуть не стеснявшийся сдавать напрокат стулья в принадлежащем ему саду Пале-Руаяль…
Однако при всём лояльном отношении к полякам правительство за ними присматривало зорко, не без основания считая эмигрантов духовными братьями якобинцев[7], о которых во Франции вспоминали с дрожью. В Комитете об этом знали, и такое сравнение вчерашним повстанцам льстило. Любопытно отметить, что некоторые члены Комитета на самом деле были чем-то схожи с якобинскими вождями.
Сдержанными манерами, аккуратностью, тихим голосом и сумрачным худым лицом Иоахим Лелевель напоминал Робеспьера.
Отставной бригадный генерал Войска польского Роман Солтык, здоровяк с громовым басом и некрасивой физиономией в ореоле вечно всклокоченных волос, большой любитель мяса, вина и женщин, – так вот, с этого Солтыка можно было бы писать портрет Дантона.
Имелся также свой Марат. На его роль вполне мог претендовать публицист Тадеуш Кремповецкий, чьи радикальные принципы и резкие суждения изъявляли непримиримый дух, бурлящий в костлявом теле.
И, наконец, историк и писатель (заодно и бывший военный) Леонард Ходзько. Положительно, было в нём сходство с Сен-Жюстом. Тридцати лет, статный, – пожалуй, что и красивый. Но в бесстрастном лице с большими холодными глазами ощущалась непреклонность палача, занёсшего топор над жертвой.
Кстати, о палаче. Таковым Комитет, естественно, не располагал. Но был некий эмигрант, появившийся в Париже лишь несколько месяцев назад и в силу непонятных причин мгновенно завоевавший полное доверие Лелевеля. Именно ему председатель поручил организовать безопасность Комитета.
Первым делом были наняты два дюжих телохранителя, чьи рожи сами по себе могли бы отпугнуть любого злоумышленника. Отныне они сопровождали профессора во всех перемещениях. Потом некоторые из наиболее шумных эмигрантов почему-то перестали бывать в Комитете. Ещё недавно день за днём сотрясали воздух в особняке, а теперь выбрали для дискуссий другое место. Потом вдруг исчез бывший депутат сейма Дымбовский, утомивший Лелевеля жёсткой публичной критикой в адрес и самого профессора, и возглавляемого им Комитета. Исчез, как и не было. То ли внезапно покинул Париж, то ли вообще непонятно что… Потом у редактора эмигрантской газеты, недружественной к Комитету, начались проблемы с распространением тиража, а однажды тираж и вовсе сгорел, – вместе с типографией…
Ни к одному из подобных эпизодов (а они были, были) новоиспечённый помощник по безопасности отношения вроде бы не имел. Но спустя короткое время этого довольно молодого, немногословного, коренастого человека в эмигрантской среде стали без видимых причин побаиваться и сторониться. Непохоже, однако, чтобы того холодное отношение собратьев-эмигрантов смущало. Общался он исключительно с Лелевелем да оказывал знаки внимания панне Беате, которая принимала их чрезвычайно сдержанно. Не нравился ей человек, у которого, кроме сложной репутации, была ещё и совиная внешность. Крючковатый нос, немигающий взгляд круглых глаз… Уж лучше Ходзько, который при всей сдержанности время от времени одаривал её недвусмысленными комплиментами…
Но вернёмся к 29 октября.
До второй годовщины восстания оставался месяц. Сидя за длинным столом, члены Комитета и приглашённые эмигранты под лёгкий треск свечей в канделябрах горячо обсуждали, как лучше отметить славную дату.
– Шествие, панове! Непременно большое народное шествие, прямо на Елисейских Полях! – надрывался большой поклонник массовых действий неукротимый Кремповецкий.
– Шествие – это хорошо, – соглашался бывший граф Гуровский, за участие в восстании лишённый имущества и приговорённый на родине к смертной казни. – Но я бы не привлекал излишнее внимание властей. Не будем ставить французов в неудобное положение. Вы же знаете, что русское посольство и так требует высылки половины из нас. Отметим как-нибудь камерно.
Лелевель наклонил голову.
– Я тоже склоняюсь к скромному варианту, – прошелестел он. (Удивительная особенность была у председателя: как бы тихо он ни говорил, все и всегда его слышали.) – Соберёмся своим кругом прямо здесь, накроем стол. Вспомним погибших собратьев, обсудим дела и планы… И потом, насколько я понимаю, финансовое положение Комитета не позволяет сейчас замахнуться на широкое празднование.
Взгляды собравшихся дружно обратились к Каролю Водзинскому. Этот малоприметный немолодой человек, всегда одетый в тёмное, исполнял в Комитете обязанности кассира, а фактически министра финансов, с ним считался и сам председатель. Водзинский значительно кивнул, как бы подтверждая слова Лелевеля: да, мол, время такое, – не до жира.
– И всё-таки у празднования должно быть хоть какое-то общественное звучание, – настаивал Кремповецкий. – Просто выпить по рюмке и потолковать можно в любое другое время.
– Предлагаю компромисс, – обронил Ходзько, поглаживая густые усы. – В день годовщины соберём людей и проведём митинг. Загодя предупредим префектуру, само собой. Я приглашу пять-шесть газет, репортёров угостим. Это недорого. Напечатают заметки о митинге польской эмиграции, – вот вам и общественное звучание. Ну, а уж потом и за стол, как предлагает пан председатель.
При слове «стол» экс-генерал Солтык оживился.
– По-моему, славное предложение, – заявил он, потирая руки. – С газетами всё ясно. Теперь предлагаю поговорить о меню. А пан Петкевич пусть запротоколирует.
– Не рано ли про меню, за месяц-то? – усомнился секретарь Комитета Владислав Петкевич.
– В самый раз, – отрезал Солтык. – А пан кассир за месяц как раз денежек-то на стол соберёт, соберёт…
Водзинский только вздохнул. Помощник по безопасности, сидевший рядом с председателем, бросил на Солтыка саркастический взгляд, но промолчал.
Часть собравшихся, не поместившись за столом, устроилась на стульях вдоль стены. Сидел среди них и человек, явно разменявший пятый десяток.
Держался он неестественно прямо, словно аршин проглотил. Одет был солидно и неброско, только вот серый, хорошего сукна сюртук казался слишком большим, не по размеру, словно снятым с чужого плеча. Похоже, человек нервничал или был чем-то озабочен, – то и дело доставал из кармана панталон платок и вытирал пот со лба, хотя в особняке было вовсе не жарко. При этом веки его оставались полуприкрыты, словно не хотел ни с кем встречаться глазами.
Неожиданно он поднялся и направился к выходу. Чуть позже следом за ним из зала выскользнул один из собравшихся.
Этого человека я вижу впервые, хотя вроде бы уже знаю всех, кто более-менее регулярно бывает в нашем особняке. Но это ладно. В Париж из Польши регулярно приезжают новые люди, наше сообщество пополняется, и за каждым не уследишь.
Гораздо интереснее, почему его сюртук оттопырен на груди. Словно лежит у человека за пазухой какой-то объёмный предмет. Даже чрезмерно просторная одежда не в силах скрыть его величину. Похоже, однако, эту странность заметил я один, – все остальные слишком увлечены обсуждением предстоящего события. Другая странность: незнакомец явно взволнован. Он не выпускает из рук носовой платок, вытирая пот со лба. Что это с ним?
Видимо, ощутив на себе взгляд, человек поворачивает голову в мою сторону. Я не успеваю отвести глаза. Не знаю, что он там в них прочитал, но только вдруг встаёт и направляется к выходу. А вот это уже по-настоящему интересно. Словно испугался… но чего? Выждав с минуту, я тихонько покидаю зал и следую за ним.
Застаю незнакомца в маленькой комнатке-гардеробной на первом этаже. Здесь раздеваются гости и посетители Комитета. Он торопливо надевает пальто. Увидев меня, застывает, не успев продеть руку в рукав.
Теперь я могу как следует его разглядеть. Хорошее лицо… да, хорошее. Высокий лоб, твёрдые черты, решительный подбородок. Седеющие волосы каштанового оттенка, аккуратно подстриженные усы. Упрямые серые глаза настороженно прищурены. Немолод, но фигурой крепок и широкоплеч.
– Вечер добрый, пан, – приветливо говорю я, заходя в гардеробную. – Что же вы собрались, не дождавшись чаю? Панна Беата с Агнешкой сейчас будут разносить. Оставайтесь, не пожалеете. К чаю бутерброды будут, и булочки тоже прямо из местной пекарни, – объеденье.
– Добрый вечер, – сдержанно говорит человек, надев наконец пальто. – Нет времени, знаете ли. Спешу. Как-нибудь в другой раз.
– А-а, – тяну понимающе. – Жаль, конечно. А впрочем… – Сделав шаг вперёд, говорю уже без обиняков: – Ну-ка покажите, что у вас там за пазухой.
Глаза незнакомца гневно вспыхивают.
– Пан в уме? Какое пану до этого дело?
– Самое непосредственное. У нас, видите ли, не принято посещать Комитет с оружием в кармане.
– Дайте пройти! – рычит незнакомец и пытается меня оттолкнуть.
Перехватив протянутую руку, без церемоний заламываю за спину и прижимаю человека лицом к стене. Без церемоний же запускаю свободную ладонь за пазуху. Достаю предмет, оттопыривающий сюртук незнакомца.
– Так и есть, – говорю, переводя дух. – Пистолет «Ле Паж», армейский, однозарядный. Продаётся во всех оружейных лавках. Вы в какой брали?
– Идите к чёрту! – хрипит незнакомец, пытаясь вырваться. (Скажу сразу – напрасно.) – Отпустите меня!
– Отпущу, конечно, – успокаиваю я. – Не до Рождества же вам руку выламывать. Но взамен вы расскажете, кого из нас вы собрались подстрелить. И почему. Или, если угодно, – за что.
– Ни хрена я вам не расскажу!
– Вот что нас, поляков, от века губит, так это дурное упрямство…
С этой нравоучительной репликой отпускаю незнакомца. Но тут же, щёлкнув курком, приставляю дуло «Ле Пажа» снизу к подбородку.
– У вас, любезный, два пути. Либо я подниму шум, сбегутся наши, и общими усилиями мы сдадим вас в участок. А там жандармы со всем возможным дружелюбием расспросят вас насчёт оружия и планов его использования… Либо мы сейчас пройдём в уютное место, где можно выпить хорошего кофе и поговорить. И вы мне без протокола всё поясните. Можете считать это детским любопытством.
При словах «без протокола» человек отчего-то улыбается краешком губ.
– Сильные у вас руки, – замечает он, потирая лицо, слегка пострадавшее от соприкосновения со стеной.
– Я и бегаю быстро, – откликаюсь я и опускаю оружие. – Хвастаюсь на тот случай, коли вы решите от меня сбежать… Не надо. Давайте по-честному.
Незнакомец кивает и застёгивает пальто. Надев своё, с трудом пристраиваю «Ле Паж» во внутренний карман, – громоздкая вещь, увесистая.
Покидаем особняк (на прощание киваю Мацею, дремлющему в сторожке) и неторопливо направляемся к Вандомской площади, где среди прочих заведений есть кафе «Звезда Парижа». Приятное место, и кофе варить умеют.
Идём по тротуару, то и дело прижимаясь к стенам домов, чтобы не получить порцию грязи от проезжающих мимо карет и омнибусов. Что поделаешь! Весь день шёл дождь, превративший и без того замусоренную мостовую в настоящую клоаку. А что такое клоака, объяснять парижанам, включая недавних, вроде меня, излишне. Грязь и вонь французской столицы, увы, есть факт непреложный. И каким-то неестественным образом этот факт уживается с очарованием знаменитых магазинов модной одежды, парфюмерии, ювелирных украшений…
В кафе вечером людно, однако довольно тихо. Публика чистая, степенная, пьют умеренно, стало быть, и на крик не срываются. Заняв крохотный столик у окна, мы садимся, причём мой визави пальто снимает, а я своё лишь расстёгиваю. Не хватает, чтобы «Ле Паж» на глазах у публики вывалился из кармана.
– Слушаю вас внимательно, – говорю незнакомцу после того, как официант принимает заказ на кофе и коньяк.
– Да, конечно… Только не знаю, с чего начать.
– Начните с простого, – советую я. – Например, назовите имя.
– Войцех меня зовут. Войцех Каминский.
– Чем занимаетесь, пан Каминский?
– Двадцать лет прослужил следователем Миньской поветской прокуратуры в Мазовецком воеводстве, а недавно вышел в отставку.
Внимательно смотрю на него.
– Миньская поветская прокуратура, – повторяю задумчиво. – Солидно… А почему вышли? Возраст у вас ещё вполне служивый. С начальством не поладили?
– Напротив. Начальство против отставки возражало.
– Здоровье не в порядке?
– Да нет, грех жаловаться.
– Ну, тогда ваше здоровье. Его много не бывает. – Поднимаю рюмку с коньяком, отхлёбываю. – Значит, семейные обстоятельства?
– Какие там обстоятельства. Я человек одинокий.
Я развожу руками.
– Сдаюсь! Ну, не томите. Выкладывайте уже, почему бросили службу и уехали в Париж. Неужели решили послужить святому делу освобождения Польши от русского гнёта?
Каминский пожимает плечами.
– В каком-то смысле да, хотя и не всё так однозначно. Не знаю, поймёте ли…
Машинально попивая кофе, он принимается рассказывать свою историю. Если отвлечься от деталей, суть её такова.
Весной нынешнего года Каминский расследовал двойное убийство в городишке Калушин. Погибли русский чиновник из канцелярии наместника и его невеста, местная девушка-полька. Их лишили жизни с изощрённой, можно сказать, дикой жестокостью…
Бывший следователь скупо делится подробностями преступления. Видно, что ему тяжело вспоминать картину, которую пять месяцев назад увидел в заброшенном доме на краю Калушина. А мне тяжело слушать. Ах, как тяжело… Но я слушаю, уставившись взглядом в чашку, чтобы скрыть нахлынувшее волнение.
– Невероятно, – говорю наконец, не поднимая глаз. – Деяние прямо-таки дьявольское. В чём были виноваты эти несчастные?
– Русский чиновник провинился в том, что он русский. А девушка в том, что полюбила москаля.
– И это всё?
– Для «народных мстителей» вполне достаточно.
– Вы уверены, что это были именно они?
– Я это установил.
– И значит…
– Фактически это была казнь. Показательная расправа, от которой содрогнулась вся округа. Если хотите, урок на будущее для каждого, кто хотя бы доброжелательно посмотрит на русского.
Даю официанту сигнал повторить коньяк.
– Ну, предположим, – говорю я, вертя в пальцах рюмку с тёмно-золотистым напитком. – Однако пока не вижу связи между расследованием убийства, вашей отставкой и прибытием в Париж.
– Я же говорил, что не уверен, поймёте ли вы меня…
По горячим следам Каминский выяснил у местного старосты, где затаились «народные мстители». Свой лагерь они разбили в Калушинском лесу, у истока Ведьминого ручья, где, по слухам, в незапамятные времена стояло волховное капище. Оставив место происшествия на полицейских, следователь поскакал в Варшаву, в наместничество. Уже через несколько часов добился приёма у наместника Царства Польского графа Паскевича. Потрясённый трагической гибелью своего чиновника, Паскевич немедленно распорядился уничтожить «мстителей». По его приказу Каминский выдвинулся в Калушинский лес вместе с батальоном Мазовецкого гарнизона и присутствовал при разгроме повстанцев…
– Однако, – хмуро замечаю я. – Выходит, вы фактически сдали властям наших людей?
Разом побагровевшие щёки Каминского вскипают желваками
– Каких, к чёртовой матери, людей? – рычит он чуть ли не шёпотом. (Правильно. Внимание окружающих привлекать ни к чему.) – Зверьё это, а не люди. Позор Польши и своих матерей… Сдал и ни на грош не жалею! Трижды сдал бы, если б мог!
Не сдержавшись, бьёт кулаком по столу (официант с удивлением поворачивается в нашу сторону) и вызывающе смотрит на меня, однако я не расположен к дискуссии.
– Не горячитесь, – предлагаю негромко. – На нас уже оглядываются… Что было дальше?
Солдаты, окружив отряд, почти полностью перебили «мстителей». Немногих оставшихся Каминский, не теряя времени, допросил там же, в лесу. Выяснилось, что отрядом командовал некий Ян Зых, – единственный, кому удалось ускользнуть из окружения. Пленники рассказали о нём кое-что интересное. В своё время Зых учился в Виленском университете, однако был отчислен за участие в тайном студенческом обществе филоматов[8]. Свирепо дрался с москалями в дни Восстания, а после разгрома, сколотив отряд из недобитых повстанцев, засел в лесу и терроризировал всё воеводство.
Русских ненавидел слепой животной ненавистью, но ещё большую ненависть испытывал к полякам, которые хоть как-то симпатизировали врагам. Таких бывший студент убивал собственноручно – жестоко, с выдумкой. Калушинской девушке, погибшей из-за любви к русскому чиновнику, Зых перерезал горло лично. А перед этим первым её изнасиловал… Несчастному же чиновнику сам вбивал штырь в сердце, пока другие «мстители» прижимали человека к стене и затыкали тряпкой кричащий рот…
Замолчав, Каминский испытывающе смотрит на меня. Молчу и я. В пересохшем горле нет слов.
– И это ещё не всё, – говорит Каминский с тяжёлым вздохом.
– Куда уж больше…
– А вот есть куда…
На следующий день после разгрома «мстителей» соседи нашли труп гминного старосты. Бедный старик лежал на пороге собственного дома с отрезанной головой. Вся его семья была перебита до последнего человека. А человеком этим оказался ребёнок, внучка старосты…
– У Зыха, конечно, в городе были свои люди, – продолжает Каминский, сжимая и разжимая кулаки. – Кто-то заприметил, что староста шушукается со следователем. Со мной то есть. А на следующий день отряд разгромили. Понятно, что после этого, прежде чем податься в бега, Зых кинулся к своим в город, – разжиться одеждой, деньгами. Тут ему и доложили, что к чему. А уж исчезнуть, не отомстив старосте за предательство, он просто не мог… Получается, я невольно накликал смерть на старика и на семью его. Ну, как после этого жить?
– И вы решили отомстить в свою очередь, – констатирую я устало.
– Да! А как бы вы поступили на моём месте?
– Неважно… Посвятили время и силы поиску Зыха. Для этого даже вышли в отставку. Всё ради мести…
Каминский качает головой.
– Вы поймите… Я хочу его убить, и я его убью. Однако сделаю это не только ради мести, но главным образом ради Польши, за свободу которой этот зверь якобы борется.
– Вот как? Пан патриот?
– Да, – твёрдо говорит Каминский, глядя исподлобья. – Я коренной поляк, потомственный шляхтич, и за свободу Польши готов умереть. (Пафос реплики искупается глубокой искренностью тона.) Но этот Зых… И такие, как он, а их немало… Это же кровавые безумцы! Они поганят святое дело, которому присягнули. От таких Польшу надо очищать. Спасать надо. Иначе Европа будет воспринимать поляков как жестокую банду, а нашу несчастную родину считать рассадником ужаса и насилия!
В горячих словах Каминского есть своя логика, и мотивы его действий мало-помалу проясняются, – хотя ещё и не до конца.
Расставшись со службой, Каминский всецело занялся поиском. Тут пригодился большой следственный опыт и наработанные связи. Как он и предположил, Зых уехал в Париж. Оставаться в Польше после пролитой крови было слишком опасно, да и Паскевич, лишившийся своего доверенного чиновника, объявил недобитого «мстителя» личным врагом. О появлении Зыха в Париже Каминский узнал от знакомых эмигрантов, каждому из которых написал: мол, ищу родственника, пропавшего после Восстания; приметы такие-то, прошу сообщить…
– И вот я приехал в Париж, – заканчивает Каминский.
Официант радостно принимает заказ на новый кофе и коньяк. За окном уже давно стемнело. Огни уличных фонарей бриллиантово отражаются в грязных лужах. В кафе тепло и уютно, и среди чисто одетых, благопристойных людей трудно поверить, что где-то не столь уж и далеко (в соседней стране всего-навсего) страшно погибли ни в чём не повинные люди, а совсем близко, в Париже, разгуливает зверь в человеческом облике…
– Ну, приехали вы, – говорю я, кивнув. – И что дальше? Какого чёрта вы появились в Комитете с оружием за пазухой? Или вы с ним не расстаётесь?
– А где же мне ещё появиться? Зых, – он тут, у вас…
Я уже и сам догадался, что бывший студент, как и многие другие эмигранты, особняк Комитета стороной не обошёл. Вопрос – кто?
Каминский называет фамилию, и я хмурюсь. Цешковский. Ежи Цешковский. Фамилия как фамилия. Но именно под ней в Комитете появился и быстро занял место возле Лелевеля помощник по безопасности. (А ещё начал ухаживать за панной Беатой.) Вот, значит, как теперь зовут пана Зыха…
– А вы не путаете? – уточняю на всякий случай. – Вы ведь этого живодёра и в глаза не видели.
– Что тут путать? Староста и уцелевшие «мстители» описали очень подробно. Лицом – чистая сова. Глаза круглые, взгляд немигающий, нос крючком. Коренастый, крепкий. Волосы тёмные.
Да, всё так. И между прочим, становятся ясны приязнь и доверие, которые Лелевель с ходу выказал новому эмигранту несколько месяцев назад. Зых ведь из Виленского университета, а председатель долгое время преподавал там историю. Так что знакомство у них давнее. И тайное общество филоматов Лелевель вроде бы патронировал…
Я поднимаюсь и оставляю на столике пару купюр.
– Пойдёмте, пан Каминский, засиделись уже.
На улице, выйдя из кафе, я возвращаю Каминскому порядком надоевший мне «Ле-Паж».
– Это не значит, что можно охотиться на Зыха и дальше, – предупреждаю на всякий случай. – Тем более, в стенах Комитета. Как только вы выстрелите, наши вас затопчут. А может, ещё до того, как вы успеете спустить курок.
– Я от своего решения не отступлю, – упрямо говорит бывший следователь и даже останавливается.
Останавливаюсь и я.
– Послушайте, пан Каминский! Ваши мотивы мне ясны и даже некоторым образом вызывают уважение. Но своевольничать не надо. Во-первых, Цешковский… ну, Зых, – полезный член нашего сообщества и вносит свою лепту в общее дело освобождения Польши… Не перебивайте… Во-вторых, чтобы наказать человека, не всегда надо в него стрелять. Есть и другие способы. Вы меня поняли?
– Нет!
– Не беда, – успокаиваю я Каминского. – Сейчас я провожу вас домой и заодно посмотрю, где вы остановились. А по пути растолкую некоторые вещи. Думаю, что мы можем друг другу быть полезными…
Глава вторая
Пресловутое польское вольнодумство проявлялось даже в мелочах. Казалось бы, как должны проходить заседания Комитета? Его участники собираются в кабинете председателя, чинно рассаживаются за длинным столом и поочерёдно высказываются на обсуждаемую тему… Так? Нет, не так.
Во-первых, каждый садился там, где заблагорассудится, вплоть до подоконника. Во-вторых, говорили горячо, громко, перебивая друг друга, а то и переходя на личности. С простейшей дисциплиной члены собрания были не в ладах и, возможно, даже считали это слово оскорбительным. Потому-то заседания Комитета нередко заканчивались безрезультатно, если не считать результатом долгую и бесплодную дискуссию, порой перераставшую в склоку. И чему удивляться? Традиция… Заседания польского сейма (с поправкой на масштаб) испокон веков проходили примерно так же.
Желая, чтобы пустой болтовни было как можно меньше, а полезной отдачи как можно больше, Лелевель постепенно сформировал в недрах Комитета своего рода малый совет. В его составе оказались люди более деловые и практичные, нежели говоруны, сотрясающие воздух ритуальными всхлипами о великой страдающей Польше. Именно этот неофициальный орган обсуждал наиболее существенные вопросы и принимал самые важные решения.
При формировании малого совета Лелевель не ограничился лишь членами Комитета. В интересах общего дела он привлёк к работе нескольких эмигрантов, на которых мог положиться.
Кто же входил в состав? Естественно, сам профессор. Из членов Комитета ещё Ходзько и Гуровский. Далее, помощник по безопасности Цешковский. Ну, это ясно. И ещё три человека, которые к Комитету прямого отношения не имели.
Мелкопоместный шляхтич Томаш Лех добровольно вступил в войско Польское и при обороне Варшавы от армии фельдмаршала Паскевича был тяжело ранен. За малым не отдав богу душу, лечился долго, а когда встал на ноги, то рассудил, что скрываться от властей всю оставшуюся жизнь – дело скучное. Поэтому, заручившись рекомендательными письмами от нескольких влиятельных патриотов, четыре месяца назад уехал в Париж, где и предъявил референции председателю Комитета.
Лелевель испытал Леха несколькими поручениями, после чего пришёл к выводу, что этот немногословный крепыш лет тридцати с небольшим – просто подарок: исполнителен, точен, энергичен. Что важно, способен проявить инициативу. Наконец, безукоризненный патриот, кровью доказавший верность общему делу. Отчего же не привлечь такого человека к важной работе, не тратя время на канительную процедуру с официальным избранием в состав Комитета?