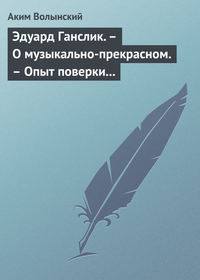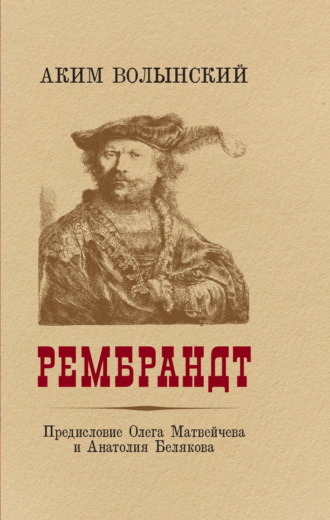
Полная версия
Рембрандт
В 1640 году Рембрандт ван Рейн получает заказ, который так же, как когда-то «Урок анатомии доктора Тюльпа», в корне изменит жизнь художника. Написать требовалось трупповой портрет роты городской милиции во главе с бравым капитаном Франсом Баннингом Коком. За работу полагалась значительная сумма – 1600 флоринов.
14 июня 1641 года умирает от чахотки Саския. Рембрандт тяжело переживает смерть жены, пытается забыться в работе. В 1642 году выставляется «Рота капитана Франса Баннинга Кока». Картина имеет колоссальный успех, однако сами заказчики остались крайне недовольны. Вместо простого группового портрета они получили шедевр, который прославлял, скорее, мастера, нежели его персонажей.
С тех пор мастерство и виртуозность становятся злым роком художника. Всё чаще заказчики предпочитают обращаться не к мэтру, а к его ученикам – Флинку, Болу, Бейкеру. Они далеко не так одарены, но вкусы клиента они понимают куда лучше, а главное, всегда готовы идти у них на поводу. К тому же своенравие учителя порой доходит до абсурда. Чтобы добиться наилучшего результата, он может месяцами рисовать и перерисовывать всего один портрет, заставляя бедного заказчика ежедневно приходить в мастерскую, не позволяя ни пошевелиться, ни высморкаться. Однажды Рембрандт писал групповой портрет – семейная чета, дети и с ними – маленькая обезьянка. Во время одного из сеансов обезьянка сдохла, и, потрясенный случившимся, художник изобразил на картине её трупик. Заказчики потребовали убрать эту не слишком приятную деталь, на что мастер ответил решительным отказом, дескать, именно она-то одна и делает картину интересной и колоритной.
Постепенно заказы сошли на «нет». Однако Рембрандт, не в силах проститься со старыми привычками, продолжал тратить огромные суммы на аукционах, пополняя свою коллекцию заморских диковин и великих картин. На аукционах он никогда не торговался – сразу назначал огромную цену, объясняя это необходимостью поддерживать престиж мастерства.
Не всё в порядке и в личной жизни. Некоторое время Рембрандт живет с кормилицей сына Гертье (Гэртген) Диркс. Затем заводит любовницу – молодую красавицу Хендрикье Стоффендоттер (Стоффельс). Гертье плетет интриги, требует на ней жениться. Но Рембрандт её не любит, к тому же и жениться он не может, потому что в этом случае, согласно завещанию Саскии, он не может распоряжаться её наследством. Живя во грехе, Хендрикье и Рембрандт рождают дочку Корнелию.
Тем временем уставшие ждать погашения долга за дом кредиторы начинают действовать – Рембрандт просрочил выплату на целых восемь лет. 25–26 июля 1654 года судебные исполнители описывают имущество художника. В список вносится всё – от «белья, подлежащего стирке», до огромной коллекции полотен и гравюр великих мастеров – Рафаэля, Ван Эйка, Брейгеля, Рубенса, Кранаха. В сентябре 1656 года имущество, нажитое Рембрандтом за всю жизнь, ушло за 600 флоринов.
Рембрандту уже не принадлежат и его картины – ни уже написанные, ни будущие. Права на них переходят к Титусу и Хендрикье.
1650-е годы – время, когда в голландском искусстве начались застой и деградация. Большинство художников пошло на поводу у разбогатевших буржуа, стремившихся усвоить обычаи и нравы аристократов и плативших большие деньги за «статусные» портреты. Сохраняя внешнее сходство, художники «облагораживали» модель с помощью трафаретных приемов репрезентативного аристократического портрета.
Рембрандт, напротив, к своему пятидесятилетию вступает в период наивысшего расцвета сил и таланта. Почти не имея заказов, он пишет портреты членов семьи и немногих друзей. Оставив свой прежний роскошный дом, Рембрандт перебирается с семьей в маленькое жилище на окраине. Он переносит прах Сискии на кладбище поближе к дому, где цена могил ниже. В 1661 году умирает Хендрикье. Рембрандт хоронит её на том же кладбище. Он пишет всё более и более великие шедевры – «Возвращение блудного сына» (1668-69), «Заговор Юлия Цивилиса» (1661), «Синдики» (1662).
В 1665 году Рембрандт живет на деньги сына. Один из кредиторов должен был компенсировать Титусу, признанному судом основным кредитором Рембрандта, часть средств, полученных на распродаже имущества – всего 6952 флорина. Однако и этой колоссальной суммы хватило ненадолго – Рембрандт сразу же начал тратить её на покупку картин.
10 февраля 1668 года Титус женится на Магдалене ван Лоо и переезжает к теще. Через полгода он умирает. Рембрандт остается с четырнадцатилетней дочерью Корнелией. Даже оказавшись в суровой нищете, Рембрандт не пожелал продать ни одной картины из воссозданной коллекции – он предпочитал творить в окружении шедевров. Творить, без оглядки на общественные вкусы, так, как подсказывало ему сердце.
Говорят, что однажды к Рембрандту заглянул его преуспевающий ученик. Он искусно нарисовал на полу золотые монеты, которые подслеповатый художник принял за настоящие, и бросился их собирать. Вскоре после этого последнего удара судьбы он умер.
Смерть Рембрандта ван Рейна пришла 4 октября. Уход из жизни величайшего художника Голландии прошла почти незамеченной современниками. В те времена по любому незначительному поводу создавались оды, наполненные выспренними излияниями. Однако о кончине Рембрандта мы узнаем лишь по краткой записи в погребальной книге церкви, при которой он был похоронен.
За свою жизнь Рембрандт создал около 600 картин, почти 300 офортов и более 1400 рисунков.
От автора
Отдаю читающей публике книгу о Рембрандте. Она написана в текущем году, в условиях современной русской жизни, но задумана ещё в бытность мою в Голландии, лет двадцать тому назад. Художник всегда казался мне загадкою, к которой надлежит подойти не со стороны чисто технической, а скорее со стороны идейной. Ни один живописец мира не создан для критики идеологического характера в такой мере, как Рембрандт. Применяя в своём исследовании рабочую гипотезу о дальней или ближней принадлежности Рембрандта к еврейскому племени, я отнюдь не стремился этим установить какие-либо новые, незыблемые биографические факты метрического характера. Задача моя представлялась мне иною. Предстояло выяснить в общечеловеческой концепции тот психологический тип, ту форму мышления и чувствования, которые можно назвать еврейскими, кто бы ни являлся их носителем. Эти черты мною и прослежены на пространстве книги. Приходилось мне при этом допускать широкие отступления для всестороннего выяснения запятой мною позиции.
В некотором смысле настоящая книга является обширною иллюстрацией моего «Гиперборейского Гимна», одним из этюдов, входящих в его состав.
А. Волынский
Рембрандт
Я написал книгу о Рембрандте, задуманную лет двадцать назад, во время моего пребывания в Голландии. Другие труды отвлекали моё внимание, и только в текущем году я мог начать и закончить это обширное исследование. Должен сказать с самого начала, что столь позднее написание этой книги я считаю особым для себя счастьем. Между современностью и нашими творческими побуждениями существует неисследимая, но всегда ощущаемая связь, и в этом заключен исторический двигатель каждого литературного и художественного начинания. Этот подземный контакт между душою пишущего и его временем имеет огромное значение. Я сам не мог бы с точностью указать, в каких именно местах книги слышится веяние моих дней, но читатель, наверное, почувствует, что я иду в моём исследовании тропами, обнажившимися только теперь. Я иду, а время меня ведет. Книга писалась изо дня в день, равными порциями, почти ритмически. Идеи уже давно сложились в голове моей, и, как лошади, неслись хорошим бегом вперед, под бичем текущего Хроноса. И вот я пришел к концу, и оглядываюсь на пройденный путь.
Всё в Рембрандте меня интересовало. Нет живописца в мире, который так будил бы мысли и так бы их питал. Я начал с изучения семьи Рембрандта в портретном отображении, как живописном, так и в графическом, отца, матери, дяди, братьев и близких людей. Повсюду анализ открывал поразительную вещь. Кисть художника выписывала еврейские физиономии. Приглядываясь же к этим физиономиям, я наталкивался на черты, которые я назвал габимными, и на чистые линии, тянущиеся от дальних веков. Что такое эти габимные черты, читатель узнает из самой книги. Но тут для полноты моего изложения я должен пояснить термин, схваченный мною из струй библейских источников. Габима значит высота. Когда евреи очутились, на заре своей легендарной истории, в ханаанской земле, среди хеттеев, амореев и других народностей того времени, они нашли там алтари на высотах. Дым жертв возносился к небу с этих местных круч и акрополей. Идейная жизнь человечества всегда совершается на какой-то высоте. Заняв ханаанские земли, евреи начали борьбу с этими высотами, с культурными верхами автохтонов, и, продолжая эту деятельность из века в век, стали в отдельных частях своих воспринимать колориты чуждых им идей и чувств. Местные габимы врезывались в иудейское небо, заслоняя иногда целые части его чистой синевы. Мало-помалу, в процессе завоеваний, расселений, диаспоры, стал возникать тип габимного еврея, во всех его разновидностях. Почти в каждом еврее, если он хоть сколько-нибудь характерен для своего народа, глаз открывает в самой его пластике – борьбу двух миров, незавершенных ещё до сих пор в своём развитии. Когда стоишь перед бесчисленными портретами рембрандтовской галереи, невольно уходишь мыслью к этой тьме. Перед нами прежде всего евреи, с двойственными чертами, в костюмах эпохи, переплетающихся с вековечными одеяниями. Эти последние, как музыкальный напев, то и дело звучат в симфонии великолепных туалетов, плащей, шляп с перьями, ожерелий и шпаг. Иногда перед нами сидит простой еврейский шнорер[43], положив отдыхающие ноги на туфли, и тут же детерминатив меча обращает его в апостола. И чем больше сродняешься со всеми изображенными лицами, тем больше ощущаешь присутствие в искусстве Рембрандта какой-то особенной семитической характеристики вещей и явлений. Пусть Рембрандт не еврей по своей метрике, но ветер древнего востока обуял его душу, занесенную в ратоборческую Голландию XVII в. неизвестною волною человеческих расселений. Чуть ли ни каждая физиономия с ого полотна смотрит не в окружающий быт, а в какие-то отвлечения, в какую-то странную вечность, совсем по-еврейски. Но туда же смотрит и душа художника.
Рассмотрев портреты родных, я приступил к изучению ранних и поздних автопортретов самого Рембрандта. Всю биографию художника я изучил по этим портретам, не отвлекаясь в сторону никакими общеизвестными фактами. Хотелось прочесть развивающуюся душу в чертах его лица. И тут опять и опять вставала все та же расовая загадка: кто и откуда этот человек. На всём пространстве жизни Рембрандт был типично-габимным евреем, хотя по внешнему своему бытию он мог считаться христианином. Странная вещь, смотришь на иного человека и говоришь себе: как не идет к нему христианство. Даже Владимир Соловьев, со своими брызгами цинического смеха, высокий, гибкий и стройный, вечно юный в своей магистрали, с расчесанными по византийскому образцу волосами, тоже мало подходил к рисующемуся нам идеальному типу евангельского христианина. Не тот скелет, не та анатомия, не тот ход и шаг к жертвенному алтарю. Смех не христианский, улыбка не христианская, самое слово не христианское, в своей кругло-законченной калиграфической риторике. Со страниц евангелия несется к нам юродиво-героическая нота, которая вообще с трудом может поселиться в душе человека, по духу и по времени чуждого великому спору иудаизма с христианством. Но если христианство не шло Владимиру Соловьеву, то ещё менее оно могло соответствовать Рембрандту. Нельзя и представить себе его в католическом храме коленопреклоненным, с молитвенно сложенными руками, с выражением сентиментального пиэтета на лице. Мы имеем автопортреты Рембрандта всех его возрастов. То он выступает перед нами молодым шутником, лэтцом, как я его назвал в книге, то прелестным юношей с вьющимися по семитическому волосами, с лицом, которое узнаешь повсюду на картинах. С годами лицо это одухотворяется, но и преждевременно стареет. И когда видишь старого Рембрандта, невольно как-то понимаешь, что этот человек и в молодости уже был стариком, несмотря на весь его клокочущий темперамент. За иными людьми так и видишь ряды прошедших веков, и черта эта особенно свойственна евреям. Иной еврейский юноша, иная еврейская девчонка кажутся плывущими на валах, несущихся из неведомой дали истории. Я проследил жизнь Рембрандта во всех фазах его бытия, мужем, родителем, дедом, вплоть до приложения к отцам, говоря по-библейски. Все последовательные жёны его рассмотрены мною на бесчисленных холстах, офортных листах и рисунках. Решительно всё, что в той или другой степени могло отразиться на творчестве художника, взвешено мною со всею доступною мне обстоятельностью. Чтобы при этом выставить в достаточной рельефности место, занимаемое Рембрандтом в портретной живописи, пришлось один из отделов книги занять обозрением голландского портретного искусства в целом, сопоставив его с образчиками соседнего творчества у великих фламандцев и французов. Сопоставление это усложнило и обогатило анализ многими, естественно сюда привходящими идеями. «Иконографию» Ван-Дейка пришлось показать с особенной высоты, в окружении замечательных граверов той эпохи. Портреты Рембрандта разобраны мною по категориям: мужчины, женщины, старики и старухи, молодежь, дети. Разные профессии, ремесленники, проповедники, христианские и еврейские, голландские дамы – всё это завершается обозрением семейных и групповых картин. Весь материал в совокупности изучается параллельно в живописи и в графике, чтобы дать критическому анализу широту и всесторонность.
Покончив с портретами, я приступил к изучению больших тем рембрандтовской кисти и иглы. «Анатомия», «Ночной Дозор» и «Синдики», со всеми примыкающими к этим произведениям менее замечательными вещами, подверглись подробнейшей характеристике. За внешними очертаниями в этих картинах улавливается веяние большой отвлеченной мысли, выходящей далеко за границы отдельных заказов. Не только в эпоху Рембрандта, но и в наши дни эти шедевры ещё подлежат расшифрованию. Я взглянул на них с точки зрения той рабочей гипотезы, которою я руководился на всём пути моего исследования, и вдруг картины эти представились мне ожившими, как гобелены в Павильоне Армиды. Но если б даже моя служебная гипотеза оказалась сама по себе недостоверною, сказанное мною о картинах всё же останется на своём месте. Нигде в мире мы не найдем художника, в творчестве которого кипели бы столь высокие мотивы. Отовсюду у Рембрандта блещет солнечными пятнами крайний какой-то рационализм, к которому можно подойти только с умозрительным методом, постоянно вдаваясь в обобщения и отвлечения. И чем больше вдумываешься в эти холсты и хрупкие офорты, тем больше видишь, что тема в них одна и та же, какая-то монолитная идейная громада, вошедшая в Голландию светоносным островом в результате непонятных духовно-геологических сдвигов. Рембрандт решительно одинок среди окружающих его современников. С кем бы его ни поставить рядом, даже с Рубенсом, даже с Гальсом, даже с Ван-Дейком, он остается обособленным и необъяснимым, как необъяснима до сих пор и та раса, к которой, как к могучему магниту, тяготела его Душа. «Анатомия», «Ночной Дозор» и «Синдики» написаны не для одного лишь семнадцатого века. Чем больше возрастет в своём интеллектуализме человечество, отойдя от фантомов христианства и всякой эмоциональной мистики, чем больше оно приблизится к своим аполлиническим высотам, тем картины эти станут всё более и более понятными. Но всё, что в мире духовном может быть понято окончательно, всегда будет иметь то или иное отношение к иудаизму. И эта связь с иудаизмом занимает уже первый план, как только мы переходим к ветхо- и новозаветным сюжетам библии. Это целая и очень большая часть творчества Рембрандта, которой посвящена почти вся последняя часть книги.
Ветхозаветные библейские темы получили у Рембрандта своеобразное освещение. Библейские образы у него лишены монументальности, неудержимо и иногда неуловимо перехода в жанр. Тут чрезвычайно выразилась габимность настроения, покидающая художника лишь в редкие моменты. Жанрист пут сказался гениальный. Но библейская поэзия от этого не выиграла. Отпал монумент, отлетела пластическая работа времени. А голландская комнатная собачка сбегает со ступенек крыльца Авраама. В душе художника не умолкали и внутренние незаглушенные голоса. Иногда, выводя иглою или кистью благородные еврейские профили еврейских старцев, Рембрандт помещал их где-нибудь на дальнем плане, или в углу картины, причём весь центр тяжести произведения, весь фокус внимания, переносились им именно на эти как бы второстепенные силуэты и очертания. Но монументальность библейская всё-таки не достигалась и здесь. Библейские картины у Рембрандта всё время колеблются между бытовым жанром и условной, церковно-ипокритной, почти шаблонной иллюстрацией. Таким образом библия не нашла в Рембрандте своего изобразителя и долго ещё, может быть, будет ждать его. Но, конечно, настанет время, когда библейская география примет в художественном сознании человечества классический характер.
Обращаясь к христианским темам, Рембрандт тоже не представил в них монументальности, которой в Новом Завете, впрочем, и вообще не существует. Монументальным в процессе веков оказывается лишь то, что родилось в живой конкретной реальности, коренилось в почве и питалось её соками. Монументален Геракл: его образ рожден в действительной борьбе между первоосновными эллинскими пластами и пришельцами – носителями новых культурных идей, оказавшихся победоносными. За Гераклом стоят столбы веков, погруженных в хмурое и смутное до-аполлиническое существование, с экзальтациями дифирамбического Диониса, но без живых лучей интелектуализма. Монументален Самсон. Монументален Авраам.
За всеми этими легендарными фигурами стоит живая действенная история, их оправдывающая, и в них пластически воплощенная. В Хроносе есть эта замечательная сила. Она увеличивает размеры фигур и придает им художественно идеализированный облик. Если мы обратимся к евангелию, то найдем там лоскутное одеяло из легенд, причём ни один образ не порожден действительностью, а выдуман и надуман. Сам Христос в своём историческом подобии нам неизвестен, а в своём церковно-иератическом отподоблении совершенно оторван от эпохи, страны и народа. В таком же положении оказывается и Сакиа-Муни Готама, так же живущий исключительно в храмовых, совершенно условных аллегориях, так что о монументальности образа Будды не может и быть и речи. Христос и Будда стоят в этом отношении рядом или – вернее сказать – висят в пространстве историческими призраками, перед которыми немеет музыка, бледнеют краски, рассыпается всякий мрамор. Конечно, и Рембрандта ожидало на этом пути неизбежное фиаско. Он пробовал писать Христа в чертах еврейского облика, но, ища несуществующей здесь монументальности, он черпал мотивы и средства из церковных кладовых, впадая в ипокритность, в условность, в иконность, и, наконец, в скучный и неприятный шаблон. Впрочем, ни одна живопись и ни одна скульптура не дали нам образа Христа, превращенного в пластичный монумент процессом времени. Все имеющееся в этой области, включая бриллианты Леонардо, Рафаэля и Тициана, не больше, как декоративный красочный дым. У Лука Синьорелли в Орвиетском соборе имеется прекрасный антихрист. Но сколько-нибудь живого Христа, растущего в монумент, мы не найдем даже у Буонаротти, у которого он представлен, по правде говоря, каким-то ярморочным атлетом в картине «Страшный суд». О бледных попытках современных Уде и говорить не приходится, как и о назарейцах и о романтиках живописи девятнадцатого века.
Всё это только фантомы и больше ничего. Фиаско Рембрандта на этом пути особенно типично. С душою интеллектуалиста, насыщенною, согласно нашей гипотезе, зачатками наследственного монизма, Рембрандт не мог черпнуть для себя вообще в надуманных христианских мифологиях ничего питательного, ничего сочного, ничего восторгающего и уносящего. С Христом некуда взлететь, если только не устремляться в бездны трансцендентной пустоты. Но, побуждаемый заказами новозаветных картин, художник насильственно творил недостижимое, не увлекая этим ни себя, ни других. Получались картины, часто выдающиеся по художественным своим качествам, по гениальной композиции, по не менее изумительной светотени. Перед глазами зрителя плывут и возникают контрастные эффекты, производящие порою впечатление настоящего магизма. Здесь Рембрандт оказывается на такой высоте, до какой поднимались только мастера chiaroscuro[44], как Леонардо и Корреджио. Но Христа всё-таки нет, и нет Нового Завета, этой завещанной человечеству благотворной болезни, через которую должен был пройти пустынный и каменный Израиль. Сам Рембрандт стоит перед нами каким-то старым камнем, свалившимся с сионских высот, обросшим плесенью, водорослями и мхом среди бушующих волн современного ему века. Христианская мистика сама по себе была ему органически чужда. Прямым путем войти в неё он не мог. Но в Голландии семнадцатого века бродили иные форменты, волновавшие Европу и занимавшие умы отдельных мечтателей и фантастов. Поставлено было задачею сочетать Элогима с Христом – нечто небывалое, противоестественное и в высочайшей степени искусственное, увлекательное только для людей распада, живущих синкретическими тенденциями, без здорового монистического зерна. Таким компромисом явилась аллегорика масонства и, в частности, розенкрейцеровства. Я останавливаюсь внимательно в моей книге на дружбе Рембрандта с еврейским патриотом и эмансипатором Менассе бен Израилем. Известный кабаллист того времени, в беседах своих с художником, открыл перед ним вход в символику нового типа. Можно почти с уверенностью сказать, что рембрандтовская светотень – это игра желто-солнечных пятень в безднах непроницаемой тьмы – явилась отголоском в красках розенкрейцеровских схем.
Таковы все главные темы рембрандтовского художественного творчества, к которому относится также и чудодейственный пейзаж. Ему посвящен конец книги.
Моё исследование о Рембрандте вырастает целиком из другой моей книги, также подлежащей ещё опубликованию. Я имею в виду «Гиперборейский гимн», написанный в прошлом году. До известной степени книга о Рембрандте является лишь иллюстрацией к «Гимну», заключающему в себе тезисы гиперборейской мысли со всеми привходящими этюдами и фрагментами. «Гиперборейский гимн» очень мозаичен по своему содержанию, но заключает в себе теоретические предпосылки, которые легли в основу «Рембрандта». От начала и до конца «Гимн» является разрывом, последним моим расчетом с христологией, которой были отданы мои прежние литературно-критические труды. Вместе с тем книга эта, отвергающая в корне всякую мистику и всякий дуализм, является в некоем высшем смысле апологией иудаизма, вознесенного на принадлежащую ему аполлиническую высоту. Я не задавался никакими тенденциозными целями. Если бы в результате обширного филологического исследования, охватившего самые ранние формы эллинских культов, получился какой-нибудь одиозный постулат, я принял бы его бестрепетно на свои плечи. Но получилось нечто иное, нечто светлое, нечто гуманистически завлекательное. Обозначились в рассеивающихся туманах ясные пути, которыми идет человечество, освобождаясь от старых фантасмагорий религиозного и философского характера. Религиозные верования взяты в их исторической оправе, и из них выделены элементы и факторы всеобщего интереса, тяготеющие к научному освещению и постижению. Это была работа, не вступившая и не могущая вступить ни в какой конфликт с так называемою научною мыслью, которая идет от вещих сновидений прошлого к сияющим высотам будущего. Я задавался только целью исследования, и если на страницах двух моих книг – «Рембрандт» и «Гиперборейский Гимн» – наметилась апология иудаизма, то я сам, со слезами радости на глазах, приветствую её с политической точки зрения.
В России издавна кипит, как смола, надземно и подземно, антисемитическая буря, то подавляемая, то раздуваемая, то пылающая, то скрытая в тайниках, но всегда действующая и угрожающая. Не видит её только тот, кто закрывает глаза. Если я не нахожусь в состоянии ослепления или чрезвычайной иллюзии, то «Рембрандт» и «Гиперборейский Гимн», в своей совокупности, являются первою известною мне в литературе защитою еврейства с точки зрения постулатов высшего разума. Каков бы я ни был сам по себе по своим размерам и силам, избранная мною позиция находится на высоте. Оттуда я смотрю и оттуда вижу. Мне могут возразить, что враги еврейства рекрутируются слишком часто среди людей, далеких от умозрительных отвлечений; что здесь обыкновенно происходит разгул своекорыстных страстей, распаляемых недобросовестными агитаторами; что антисемитизм скорее чувство, чем ясный разум вещей. На всё это я отвечаю, что никогда в истории защита с высот мысли, даже и самой абстрактной, не была бесплодною. Пусть только перекрасятся в своих тенденциях высокие и благородные представители неоарийства, и политические последствия такой метаморфозы окажутся бесчисленными. Александрийские отвлечения, при всей их выспренности, могли шуметь на византийских площадях. Величайшие революции в мире, политические и социальные, созревали часто в умах таких одиноких мыслителей, как Кондорсе и Руссо. Кто учтет последствия открытий Ньютона, Герца, Менделеева или Томсона в уличном грохоте жизни. Я бесконечно далек – и это слишком само собою разумеется – [от] мысли зачислять себя в ряды таких деятелей истории. Но отстаиваю наряду с защитою физическою и защиту духовную. Если такою защитою явятся эти две мои книги, написанные в целях чистой науки, то – повторяю – я найду в этом награду на моём многотрудном пути.