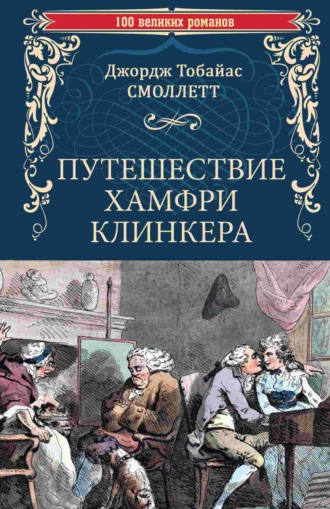
Полная версия
Путешествие Хамфри Клинкера
На вчерашнем бале я очень позабавился, увидев, как церемониймейстер торжественно провожает на почетные места престарелую Эбигейл[25], надевшую на себя платье, которое уже перестала носить ее госпожа; мне кажется, церемониймейстер принял ее за графиню, только что прибывшую на воды.
Бал был открыт шотландским лордом с мулаткой, богатой наследницей с острова Сент-Кристофер[26], а нарядный полковник Тинзел весь вечер танцевал с дочерью известного торговца скобяными товарами из Саутуорка в Лондоне. Вчера утром в галерее я видел, как владетельница поместья из Уэйпинга, страдающая одышкой, протискивалась сквозь группу пэров, чтобы приветствовать своего поставщика бренди, стоявшего, опираясь на костыли, у окна, а какой-то параличный законник с Шу-лейн, волоча ноги по пути к стойке, лягнул прямо в голень английского канцлера, покуда его лордство в коротком парике пил воду у источника. Удовольствие, каковое я получаю от наблюдения подобных сцен, я могу только объяснить тем, что они сами по себе очень забавны и усугубляют смехотворность жизненной комедии, которой я решил наслаждаться как можно дольше.
Все эти нелепости, от которых хандра моего дядюшки усиливается, вызывают у меня смех. Дядюшка подобен человеку, лишенному кожи, который не может выносить ни малейшего прикосновения, чтобы не отпрянуть. Для другого – щекотка, для него – мучение, однако же и у него бывают светлые минуты, когда рассудок, можно сказать, у него проясняется и он веселится вовсю.
Право же, я никогда не видел второго такого ипохондрика, которого столь заражало бы хорошее расположение духа другого человека. Он самый смешливый мизантроп, которого я встречал. Удачная шутка, а не то какой-нибудь забавный случай заставляют его хохотать без удержу даже во время приступов хандры, а когда припадок смеха проходит, он проклинает свою собственную глупость. В обращении с людьми чужими он не проявляет никаких признаков возбуждения, желчен он только с близкими людьми, но и с ними только тогда, когда ничем не занят. Но когда ничто внешнее не привлекает его внимания, он как бы замыкается в себе и сам себя грызет.
Он с отвращением отверг лечение водами, но нашел более целебное лекарство в публичных увеселениях. Среди инвалидов Бата он встретил нескольких старых своих приятелей и, в частности, возобновил знакомство с прославленным Джемсом Куином[27], который, без сомнения, приехал сюда не для того, чтобы пить воды. Можете не сомневаться, что я весьма любопытствовал узнать поближе этого чудака. И любопытство было удовлетворено мистером Брамблом, который дважды приглашал его к нам на обед.
Насколько я могу судить, личность Куина более почтенна, чем принято о ней говорить. Его меткие словечки на устах у всех остряков; но многие из этих словечек имеют соленый привкус, что заставляет считать, будто у него грубые понятия. Однако же я полагаю, что собиратели «куинианы» несправедливы к автору ее, ибо они упускают меж пальцев лучшие словечки и удерживают только те, которые приходятся по вкусу толпе. Как далеко он может зайти в часы разгула, я не берусь судить, но обычная его беседа подчинена самым строгим правилам благопристойности, и, несомненно, мистер Джемс Куин может почитаться одним из самых благовоспитанных людей в королевстве. Он не только самый приятный собеседник, но, как мне достоверно известно, человек очень достойный: дружелюбный, пылкий, надежный, даже самоотверженный в своих привязанностях, ненавистник лести, неспособный на какую-нибудь низость и притворство.
Однако если бы я судил только по внешнему виду Куина, я почел бы его гордым, дерзким и жестокосердным. В его взгляде есть что-то чрезвычайно суровое, неприятное, и мне говорили, будто он способен оскорблять тех, кто ниже его и от него зависит. Быть может, это сообщение и повлияло на мое суждение о его внешнем виде. Вы ведь знаете, какие мы глупцы, когда попадаем во власть предрассудков. Но как бы то ни было, я могу сказать о нем только благоприятное для него, а дядюшка, который часто разговаривал с ним с глазу на глаз, объявил, что он один из самых умных людей.
По-видимому, Куин питает взаимное уважение к старому подагрику, которого он называет запросто «Мэтью», и не раз вспоминает об их старых трактирных приключениях. И когда бы Куин ни появлялся, глаза у Мэтью сверкают. Как бы дядюшка ни скрипел и ни дребезжал, Куин может настроить его на лад, и, подобно дисканту и басу в концерте, они прекрасно спелись.
На днях зашел разговор о Шекспире, и я не удержался, чтобы не сказать с чувством, что готов заплатить сотню гиней за удовольствие увидеть мистера Куина в роли Фальстафа; на это он, повернувшись ко мне, с улыбкой ответил:
– А я, молодой джентльмен, дал бы тысячу гиней, чтобы удовлетворить ваше желание.
У обоих – у дядюшки и у него – совершенно одни и те же суждения о жизни, которая, по словам Куина, воняла бы и ударяла ему в нос, если бы он не смачивал ее кларетом.
Я хочу видеть этого феномена во хмелю и почти уговорил дядюшку угостить его в «Медведе». А теперь я должен поведать вам об одном происшествии, которое как бы подтверждает мнение этих дух цинических философов.
Я имел смелость разойтись во мнениях с мистером Брамблом, когда он заметил, что смешение людей разных званий, которое мы наблюдаем здесь в местах публичных увеселений, пагубно для порядка и для учтивого обхождения и что это смешение побуждает плебеев быть невыносимо дерзкими и назойливыми, а также делает грубыми поведение и чувства тех особ, которые вращаются в высших сферах общества. По словам дядюшки, такое нелепое соединение неминуемо вызовет презрение к нам всех наших соседей и принесет нации больше вреда, чем порча золотой монеты. Я, напротив, заявил, что те плебеи, которые столь ловко заимствуют наряды особ высокого звания, со временем позаимствуют также их суждения и манеры, приобретут лоск благодаря беседам с ними и по их образцу; когда же я отнесся к мистеру Куину и спросил, не думает ли он, что такое смешение окажет благодетельное влияние на всех, он сказал:
– Да… Как блюдце с вареньем окажет благодетельное влияние на горшок с пометом.
Сознаюсь, я не могу почесть себя весьма сведущим в жизни большого света, но все же мне пришлось присутствовать на так называемых «светских» ассамблеях в Лондоне и в других местах; в Бате таковые ассамблеи ничем от них не отличны, а участников здешних ассамблей нельзя упрекнуть в отсутствии хороших манер и в неведении приличий.
– Но возьмем, к примеру, – сказал я, – Джека Холдера, который готовился стать клириком, но после смерти старшего брата унаследовал имение, приносящее две тысячи фунтов в год. Ныне он в Бате и разъезжает в фаэтоне, запряженном четверкой, под звуки охотничьих рогов. Во всех тавернах Бата и Бристоля он угощает своих гостей черепахой и кларетом, покуда они не насытятся яствами по горло. Он купил дюжину роскошных костюмов по выбору церемониймейстера, попечению коего он себя вверил. Он проиграл на бильярде несколько сот фунтов мошенникам и взял на содержание девицу с Эйвон-стрит; но его советчик, полагая, что всеми этими средствами не удастся исчерпать его текущего счета, подбил его устроить завтра в зале Уилтшира званый чай. Дабы придать этой затее больший блеск, на каждом столе будут красоваться цветы и сласти, к которым, однако, нельзя будет прикасаться, покуда не прозвучит колокол, а тогда уж леди могут дать себе полную волю. Это будет неплохой способ распознать воспитанность гостей…
– Я погляжу на этот опыт! – воскликнул дядюшка. – Если мне удастся выбрать местечко, чтобы водоворот не закрутил меня, чего надо опасаться, я буду там и позабавлюсь сим зрелищем.
Куин посоветовал отправиться на галерею, где сидят музыканты, и мы порешили последовать его совету.
Холдер отправился туда раньше нас, припрятав свои охотничьи рога, но нам не чинили препятствий. Чай отпили, как обычно, и в ожидании сигнала к атаке гости встали из-за столов и стали прогуливаться, а когда колокол зазвонил, они ринулись к десерту, и началось столпотворение. Какая была давка, какая свалка, как все хватали, ругались, визжали! Букеты вырывали друг у друга из рук, срывали с груди; чашки и стаканы полетели на пол; столы и пол усеяны были конфетами. Гам, проклятья, в ход были пущены тропы и фигуры с Биллингсгейта[28] во всем их натуральном виде, и эти цветы риторики сопровождались соответственными жестами. Одни щелкали пальцами, другие показывали шиши, третьи хлопали себя по заду, в конце концов женщины вот-вот готовы были вцепиться друг другу в волосы, и все предвещало всеобщее побоище, когда Холдер отдал приказ своим охотничьим рогам трубить, чтобы распалить участников свалки и подзадорить их к бою.
Однако этот маневр привел отнюдь не к тем последствиям, каких он ожидал; они поняли его как упрек, который немедленно заставил их опомниться и почувствовать, сколь непристойно они себя повели. Тут они устыдились своего нелепого поведения, и сразу все стихло. Они собрали все свои шляпки, плоеные манжеты и платочки, и многие из них молча удалились, весьма огорченные.
Это приключение заставило Куина хохотать, но деликатные чувства дядюшки были потрясены. Явно опечаленный, он понурил голову и, по-видимому, сожалел о том, что предсказание его столь блистательно оправдалось. И в самом деле, его победа была еще более полной, чем он полагал, ибо, как мы потом узнали, две амазонки, особенно отличившиеся в битве, явились не из окрестностей Паддлдока, но из аристократической местности, расположенной по соседству с Сент-Джемским дворцом. Одна из них была баронесса, другая – вдова богатого баронета.
Дядюшка не вымолвил ни слова, покуда мы не пришли в кофейню, где он, сняв шляпу и вытерев лоб, сказал:
– Слава богу, что мисс Табиты Брамбл сегодня там не было.
– Бьюсь об заклад, что она стоила бы всей компании! – воскликнул Куин.
Сказать по правде, ничто не смогло бы удержать ее дома, если бы по случайности она не приняла слабительное, прежде чем узнала, какое ее ждет развлечение. Уже в течение нескольких дней она подновляла свое старое платье из черного бархата, чтобы появиться в паре с сэром Уликом на предстоящем балу.
Я мог бы немало рассказать об этой моей любезной родственнице, но я еще не познакомил ее с вами надлежащим образом. Она крайне обходительна с мистером Куином, саркастический юмор которого, кажется, внушает ей почтительный страх, но ее наглость одерживает верх над ее благоразумием.
– Мистер Гуин, – сказала она на днях, – мне очень понравилось, как вы играли привидение Гумлета в Друри-лейн, как это вы вылезли из-под пола, а лицо у вас было белое, а глаза красные, и вы еще сказали об «уличной девке на ужасном дикобразе»[29]. Сделайте одолжение, сыграйте немного привидение этого самого Гумлета!
– Мадам, дух Гумлета почил и никогда больше не воскреснет, – сказал с невыразимым презрением Куин.
Но мисс Табита, не поняв, что он ее оборвал, продолжала:
– О, как вы были похожи на привидение! И говорили прямо как привидение. А потом петух закукарекал так натурально! Понять не могу, как это вы научили его кукарекать в самое что ни на есть нужное время! Должно быть, это был бойцовый петух? Правда, мистер Гуин?
– Это был самый простой петух, мадам.
– Простой или не простой, это неважно, но у него был такой чистый альт, что мне бы хотелось достать другого такого в Брамблтон-Холл, чтобы будить служанок по утрам. Где бы я могла достать какого-нибудь его потомка?
– Возможно, в работном доме в приходе Сен-Джилс, мадам, но должен вам заметить, мне неизвестно, в каком он жил курятнике.
Дядюшка, вскипев от раздражения, воскликнул:
– Боже мой, о чем вы толкуете, сестра? Двадцать раз я вам говорил, что сего джентльмена зовут отнюдь не Гуин!..
– Неужто, братец? – отозвалась мисс Табита. – А разве это обида? Гуин самая что ни на есть почтенная английская фамилия… Я думала, что джентльмен происходит от миссис Элен Гуин[30], которая занималась тем же, что и он. А если это так, он, может быть, потомок короля Карла, и у него в жилах течет королевская кровь!..
– Нет, мадам, моя мать не была столь знатной распутной девкой, – торжественно сказал Куин. – Но, пожалуй, я в самом деле склонен полагать, что мой предок – король, ибо частенько нет удержу моим желаниям. Будь я сейчас неограниченным монархом, я приказал бы подать на блюде голову вашей стряпухи. Она повинна в преступлении против сей рыбы, которую она беспощадно накромсала, да к тому же подала без соуса. О tempora! О mores![31]
Эта шутливая выходка направила беседу в более спокойное русло. Но дабы вы не сочли мои писанья столь же утомительными, сколь и болтовню мисс Табби, не прибавлю больше ничего, кроме того только, что остаюсь, как всегда, ваш
Дж. Мелфорд.
Бат, 30 апреля
Доктору Льюису
Дорогой Льюис!
Получил ваш вексель на Уилтшир, который был оплачен точно в срок, но я не хочу держать при себе столько денег в чужом доме и потому здесь, в Бате, внес в банк двести пятьдесят фунтов, откуда и возьму чеками на Лондон перед отъездом отсюда, когда сезон подойдет к концу.
Да будет вам известно, что я сейчас на ногах и решил показать Лондон моей племяннице Лидди. Она – одно из самых добрых созданий, которых я когда-либо знал, и с каждым днем я привязываюсь к ней все больше. Что до Табби, то я уже сделал намеки ирландскому баронету касательно ее имущественного положения, а сие, не сомневаюсь, охладит пыл его искательства. Тогда гордость ее встрепенется, вспыхнет злоба, присущая перезрелой девственнице, и мы не услышим от нее ничего, кроме ругани и поношений при упоминании о сэре Улике Маккалигуте. Сей разрыв, как я предвижу, облегчит нам отъезд из Бата, где в настоящее время Табби по всем признакам ублажает себя с превеликим удовольствием. Что до меня, то я так ненавижу Бат, что был бы не в состоянии так долго оставаться здесь, если бы не встретил старых приятелей, беседа с которыми смягчает дурное расположение духа.
Как-то поутру я отправился в кофейню и разглядел внимательно посетителей, разглядел не без удивления и жалости. Нас было тринадцать человек: семеро охромевших от подагры, ревматизма или паралича, трое случайно изувеченных калек, а остальные глухие или слепые. Один еле ковылял, другой припадал на ногу, третий еле ползал, точно раненая змея, четвертый раскорячился между длинными костылями, будто мумия преступника, повешенного в цепях, пятый, подталкиваемый двумя носильщиками, согнулся пополам, напоминая телескоп на подставке, а у шестого виден был только бюст, втиснутый в кресло на колесах, передвигаемое с места на место слугой.
Меня поразили лица некоторых из них; я справился в книге посетителей, нашел там имена нескольких старых моих приятелей и стал всматриваться в присутствующих более внимательно. Тут я узнал контр-адмирала Болдерика, друга моей юности, которого не видал с той поры, как он получил назначение лейтенантом на «Северн». Он преобразился в пожилого человека с деревянной ногой и обветренным лицом, казавшимся еще более старым благодаря седым кудрям, придававшим ему весьма почтенный вид; сидя за столом, где, углубившись в газету, сидел и он, я некоторое время вглядывался в него со смешанным чувством радости и сожаления, от коего сердце мое преисполнялось нежностью, а потом взял его за руку и сказал:
– Эх, Сэм, сорок лет назад я не думал… – Тут я столь расчувствовался, что не мог продолжать.
– Да неужто старый приятель! – воскликнул он, схватив мою руку и впившись в меня взглядом сквозь очки. – По виду судно знакомое, хоть и здорово износилось с тех пор, как мы расстались, но вот никак не могу выудить из памяти, как оно зовется…
Не успел я назвать себя, как он закричал:
– Матт! Старина! Еще держится на воде!
Вскочив, он сжал меня в объятиях. Но его восторг обошелся мне недешево, ибо, целуя меня, он въехал мне в глаз дужкой очков, а деревяшкой наступил на подагрический большой палец. От сей атаки слезы у меня полились не на шутку. Когда волнение, вызванное встречей, улеглось, он указал мне на двух общих наших приятелей. «Бюст» – это было все, что осталось от полковника Кокрила, каковой во время американской кампании утратил способность пользоваться конечностями, а «телескоп» оказался моим однокашником по колледжу, сэром Реджиналлом Бентли, который, получив титул и неожиданное наследство, занялся охотой на лисиц, не пройдя посвящения в ее тайны, а следствием было то, что он в погоне за лисицами через реку получил воспаление кишок, после чего и скрючился.
Тотчас же прежние наши отношения возобновились, и сопровождались они самыми сердечными выражениями взаимного доброжелательства, а так как встретились мы неожиданно, то порешили пообедать все вместе в тот же день в таверне. Мой друг Куин, по счастью, не был занят и почтил нас своим присутствием. И, право же, это был самый счастливый день в моей жизни за последние двадцать лет. Мы с вами, Льюис, всегда были вместе, а потому никогда и не испытали тех высоких дружеских чувств, какие возникают после долгой разлуки. Я не могу выразить и половины того, что я чувствовал во время неожиданной встречи нескольких приятелей, столь долго разлученных и столь пострадавших от жизненных бурь. Это было возрождение юности, вроде воскрешения из мертвых, как бы воплотившего мечты, в коих мы иногда извлекаем наших старых друзей из могилы. Может быть, удовольствие не было мне менее приятно оттого, что к нему примешивалось меланхолическое чувство, вызванное воспоминанием о картинах прошлого, от которых возникли мысли о некоторых дорогих сердцу узах, в самом деле разорванных рукою смерти.
Казалось, веселость и хорошее расположение духа торжествовали над телесными немощами собравшихся. Они были даже настолько философы, что подшучивали над собственными бедами; такова сила дружбы – превосходнейшего целебного лекарства в жизни. Однако потом я узнал, что у всех у них бывали минуты, даже часы, тревожные. Каждый из них при последующих наших встречах сетовал на свои обиды, и все они в сущности роптали. Все они, – и не только потому, что с каждым из них случилась беда, – почитали себя неудачливыми в лотерее жизни. Болдерик жаловался, что в награду за свою долгую и трудную службу он получает только половинное жалованье контр-адмирала. Полковник был обижен тем, что его обогнали на службе генералы-выскочки, из коих некоторые служили под его начальством; по натуре был он человеком щедрым и с трудом мог жить на ежегодную ренту, за которую продал свой патент[32]. Что же до баронета, то, погрязши в долгах после избирательной борьбы, он вынужден был отказаться от своего места в парламенте, а также от права представительства графства и отдать свое имение в опеку. Но огорчения его, виновником коих был он сам, растрогали меня гораздо меньше, чем огорчения двух других, столь достойно подвизавшихся на широкой арене, а ныне вынужденных влачить скучную жизнь и вариться до конца своих дней в этом котле праздности и ничтожных дел.
Они уже давно отказались от лечения водами, убедившись в их бесполезности. По состоянию своего здоровья они не могут забавляться городскими увеселениями. Как же они ухитряются коротать здесь время? Поутру они ковыляют в залы или в кофейню, где играют в вист либо судят да рядят над «Дженерал адвертайзер»[33], а вечера убивают где-нибудь в гостях среди брюзгливых калек и выживших из ума старух. Так-то обстоит дело со многими людьми, которым, казалось, было уготовано лучшее будущее.
Лет десять назад немало достойных, но небогатых семейств, помимо тех, какие приезжали сюда для лечения, селились на жительство в Бате, где тогда можно было жить с удобствами и даже одеваться весьма нарядно, тратя на все это небольшие деньги. Но в безумные наши дни это место стало им не по средствам, и теперь они вынуждены подумать о переезде в другой город. Кое-кто уже бежал в горы Уэльса, другие укрылись в Экзетере. Там, разумеется, их настигнет поток роскоши и излишеств, который заставит их переезжать с места на место до самого Конца земли[34]; а там, конечно, они должны будут сесть на корабль и отплыть в другие страны.
Бат стал помойной ямой распутства и вымогательства. Каждая вещь домашнего обихода чрезвычайно поднялась в цене – обстоятельство, коему нельзя удивляться, если вспомнить, что все здешние жители, у которых есть хотя бы самые ничтожные деньги, чванятся тем, что держат открытый стол, полагая, будто их славе споспешествует потаканье плутовству слуг, находящихся в заговоре с рыночными торговцами, которые, стало быть, получают столько, сколько запросят.
Есть здесь богатый выскочка, который платит повару семьдесят гиней в неделю за то, что тот ему готовит только обед. Это чудовищное безумие столь заразительно, что его не избегли даже отбросы человечества. Я знаю, что некий надсмотрщик над неграми с Ямайки заплатил хозяину одной из зал за один только чай и кофе для приглашенных шестьдесят пять гиней, а наутро таинственно исчез из Бата, причем его гости понятия не имели, кто он такой, и даже не пытались узнать его имя.
Такие случаи бывают нередко, и каждый день изобилует такими несуразностями, слишком непристойными, чтобы мыслящий человек мог ими позабавиться.
Но я чувствую, что хандра быстро надвигается на меня, а посему я ради вас кончаю письмо, дабы вы, дорогой Дик, не имели повода проклинать переписку с вашим
М. Брамблом.
Бат, 5 мая
Мисс Летиции Уиллис, в Глостер
Дорогая моя Летти!
Двадцать шестого числа прошлого месяца я послала вам с почтовой каретой длинное письмо, из которого вы можете узнать о нашем житье в Бате. Теперь же, пользуясь сей оказией, посылаю вам две дюжины колец из Бата и прошу вас взять себе шесть самых лучших, а остальные раздайте по своему усмотрению молодым леди, нашим подругам. Не знаю, одобрите ли вы девизы, из которых некоторые мне не совсем по вкусу, но я принуждена была купить уже готовые кольца.
Я досадую, что ни вы, ни я не получали больше никаких вестей от некой ведомой вам особы, но, право же, это не может быть умышленным пренебрежением! О дорогая моя Уиллис! У меня рождаются фантастические мысли и меланхолические сомнения, которым, однако, не имея сведений, было бы не великодушно предаваться.
Дядюшка, подаривший мне очень красивый гранатовый убор, поговаривает о поездке в Лондон для нашего увеселения; что, как можете вы себе представить, будет весьма приятно; но мне так нравится Бат, что, смею надеяться, он не помыслит о том, чтобы услать отсюда до конца сезона, и однако – говорю по секрету вам, как другу, – с тетушкой моей произошло нечто) такое, что, вероятно, сократит срок пребывания нашего здесь.
Вчера поутру она отправилась без нас позавтракать в одну из зал, а через полчаса вернулась в большом смятении, захватив с собою в портшез и Чаудера. Я полагаю, что-то, должно быть, случилось с этим злополучным животным, которое является причиной всех ее треволнений. Милая Летти! Как печально, что женщина в таких летах и с ее благоразумием дарит свою любовь такому безобразному злому псу, который на всех рычит и огрызается! Я спросила сопровождавшего ее лакея, Джона Томаса, что случилось. Но он только ухмыльнулся. Послали за известным собачьим доктором, и тот взялся излечить больного при условии, если ему разрешено будет увезти его к себе домой, но хозяйка Чаудера не пожелала с ним расстаться. Она приказала кухарке принести горячую тряпку и собственноручно обмотала ему брюхо. Она и слышать не хотела о том, чтобы отправиться вечером на бал, и, когда пожаловал к нам сэр Улик, не соизволила к нему выйти, а потому он ушел искать себе другую даму. Мой брат Джерри посвистывает и приплясывает. Дядюшка пожимает плечами или принимается хохотать. Тетушка то плачет, то бранится, а ее горничная Уин Дженкинс таращит глаза, дивится и ходит с преглупой физиономией, снедаемая любопытством. Что до меня, то я любопытствую не меньше, чем она, но расспрашивать стесняюсь.
Может быть, со временем тайна откроется, так как если что-нибудь произошло в залах, недолго удастся хранить это в секрете. Известно мне только, что вчера за ужином мисс Брамбл очень презрительно отзывалась о сэре Улике Маккалигуте и осведомилась у своего брата, намеревается ли он держать нас все время в Бате, чтобы мы изнывали здесь от зноя.
– Нет, сестра Табита, – ответил он с лукавой улыбкой, – мы уедем отсюда раньше, чем настанет собачья жара, но я не сомневаюсь, что при некотором воздержании и благоразумии мы круглый год можем сохранять хладнокровие даже в Бате.
Не понимая смысла этого намека, я не берусь обсуждать его теперь, но, быть может, позднее я смогу дать вам удовлетворительное объяснение, а пока прошу вас без промедления отвечать на мои письма и по-прежнему любить навеки вам преданную
Лидию Мелфорд.
Бат, 6 мая
Сэру Уоткину Филипсу, баронету, Оксфорд, колледж Иисуса
Итак, мисс Блекерби подняла ложную тревогу и мои деньги спасены? Однако мне бы хотелось, чтобы ее признание не было преждевременным, ибо, если молва о том, что я способен сделать ее матерью, могла быть для меня лестной, то интрига с подобным треснувшим сосудом не делает мне чести.




