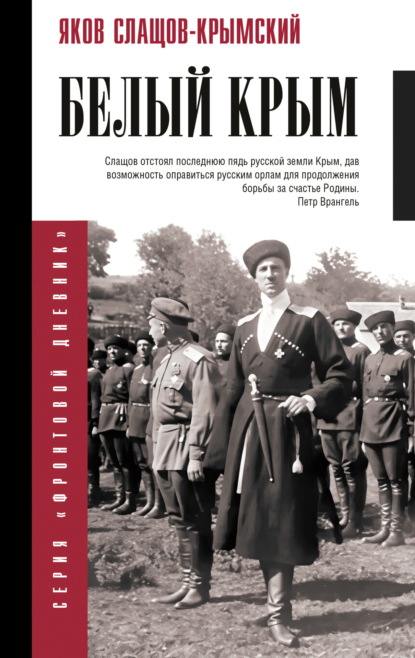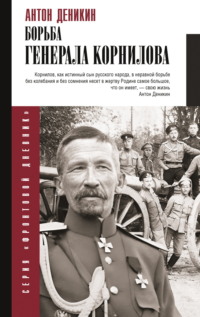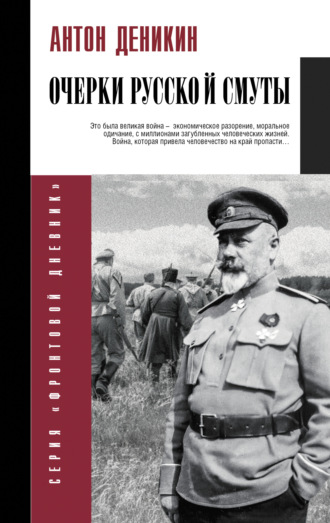
Полная версия
Очерки русской смуты
По установившемуся обычаю, за день до представления государю в одной из академических зал выпускные офицеры представлялись военному министру. Генерал Куропаткин обходил нас, здороваясь, и с каждым имел краткий разговор. Подойдя ко мне, он вздохнул глубоко и прерывающимся голосом сказал:
– А с вами, капитан, мне говорить трудно. Скажу только одно: вы сделали такой шаг, который не одобряют все ваши товарищи.
Я не ответил ничего.
Военный министр был плохо осведомлен. Он не знал, с каким трогательным вниманием и сочувствием отнеслись офицеры к опальному капитану. Не знал, что в том году впервые за существование Академии состоялся общий обед выпускных, на котором в резких и бурных формах вылился протест против академического режима и нового начальства.
Я молчал и ждал…
Особый поезд был подан для выпускных офицеров четырех академий и начальствующих лиц. Еще на вокзале я несколько раз ловил на себе испытующие и враждебные взгляды академического начальства. Со мной они не заговаривали, но на лицах их видно было явное беспокойство: не вышло бы какого-нибудь «скандала» на торжественном приеме…
Во дворце нас построили в одну линию вдоль анфилады зал – в порядке последнего незаконного списка старшинства. По прибытии Куропаткина и после разговора его с Сухотиным полковник Мошнин подошел к нам, извлек из рядов ниже меня стоявших трех товарищей по несчастью и переставил их выше – в число назначенных в Генеральный штаб. Отделил нас интервалом в два шага… Я оказался на правом фланге офицеров, не удостоенных причисления.
Все ясно.
Генерал Альтфатер, как оказалось, исполнил свое обещание. Присутствовавший на приеме великий князь Михаил Николаевич подошел ко мне перед приемом и, выразив сочувствие, сказал, что он доложил государю во всех подробностях мое дело.
Ждали долго. Наконец по рядам раздалась тихая команда:
– Господа офицеры!
Вытянулся и замер дворцовый арап, стоявший у двери, откуда ожидалось появление императора. Генерал Куропаткин, стоявший против нее, низко склонил голову…
Вошел государь. По природе своей человек застенчивый, он, по-видимому, испытывал немалое смущение во время такого большого приема – нескольких сот офицеров, каждому из которых предстояло задать несколько вопросов, сказать что-либо приветливое. Это чувствовалось по его добрым, словно тоскующим глазам, по томительным паузам в разговоре и по нервному подергиванию аксельбантами.
Подошел наконец ко мне. Я почувствовал на себе со стороны чьи-то тяжелые, давящие взоры… Скользнул взглядом: Куропаткин, Сухотин, Мошнин – все смотрели на меня сумрачно и тревожно.
Я назвал свой чин и фамилию. Раздался голос государя:
– Ну, а вы как думаете устроиться?
– Не знаю. Жду решения Вашего Императорского Величества.
Государь повернулся вполоборота и вопросительно взглянул на военного министра. Генерал Куропаткин низко наклонился и доложил:
– Этот офицер, Ваше Величество, не причислен к Генеральному штабу ЗА ХАРАКТЕР.
Государь повернулся опять ко мне, нервно обдернул аксельбанты и задал еще два незначительных вопроса: долго ли я на службе и где расположена моя бригада. Приветливо кивнул и пошел дальше.
Я видел, как просветлели лица моего начальства. Это было так заметно, что вызвало улыбки у некоторых близстоящих чинов свиты… У меня же от разговора, столь мучительно жданного, остались тяжелый осадок на душе и разочарование… в «правде воли монаршей»…
Мне предстояло отбыть лагерный сбор в одном из штабов Варшавского военного округа и затем вернуться в свою 2-ю артиллерийскую бригаду. Но варшавский штаб, возглавлявшийся тогда генералом Пузыревским, проявил к моей судьбе большое участие. Генерал Пузыревский оставил меня на вакантной должности Генерального штаба и, послав в Петербург лестные аттестации, трижды возбуждал ходатайство о моем переводе в Генеральный штаб. На два ходатайства ответа вовсе не было получено, на третье пришел ответ: «Военный министр воспретил возбуждать какое бы то ни было ходатайство о капитане Деникине».
Через некоторое время пришел ответ и от Канцелярии прошений: «По докладу такого-то числа военным министром вашей жалобы Его Императорское Величество повелеть соизволил – оставить ее без последствий».
Тем не менее на судьбу обойденных офицеров обращено было внимание: вскоре всем офицерам, когда-либо успешно кончившим 3-й курс Академии, независимо от балла, предоставлено было перейти в Генеральный штаб. Всем, кроме меня.
Больше ждать было нечего и неоткуда. Начальство Варшавского округа уговаривало меня оставаться в прикомандировании. Но меня тяготило мое неопределенное положение, не хотелось больше жить иллюзиями и плавать между двумя берегами, не пристав к Генеральному штабу и отставая от строя.
Весною 1900 года я вернулся в свою бригаду.
Часть третья
Снова в бригаде
…В покойной и здоровой обстановке протекали два года моей службы при генерале Завацком. Я был назначен старшим офицером и заведующим хозяйством в 3-ю батарею подполковника Покровского – выдающегося командира, отличного стрелка (разумею орудийную стрельбу) и опытного хозяина. За 5 лет, проведенных вне бригады, я, естественно, несколько отстал от артиллерийской службы. Но в строевом отношении я очень скоро занял надлежащее место, а в области тактики и маневрирования считался в бригаде авторитетом. Только войскового хозяйства не знал вовсе. Поэтому мы условились с Покровским, что временно он оставит хозяйство батареи в своих руках, будет учить меня и передавать мне последовательно те отрасли, которые будут мною усвоены. Учился я прилежно и небезуспешно. Батарейное хозяйство в малом масштабе – по охвату и по отчетности – аналогично было с основным полковым. Поэтому наука в этой области принесла мне большую пользу при дальнейшей службе. Ибо офицеры Генерального штаба на высших командных должностях, за редкими исключениями, были совершенно некомпетентны в области войскового хозяйства и поневоле глядели из-под рук своих интендантов.
Вообще много полезного я вынес из школы Завацкого и Покровского.
Академическая история и «изгнание» из Генерального штаба нисколько не уронили в глазах товарищей мой научный престиж. Наоборот, относились они ко мне с сочувствием и признанием. Однажды это отношение проявилось в трогательной форме. Приехал из штаба корпуса капитан Генерального штаба, моложе меня в чине и сидевший в Академии за одним столом со мной, – для проверки тактических знаний офицеров. Нескольким офицерам он задал самые элементарные задачи, в том числе… и мне. Вечером в собрании должен был происходить разбор. Возмущенный такой бестактностью, командир дивизиона приказал мне не являться в собрание, а молодежь после занятий так разделала заезжего капитана, что он не знал, куда деваться.
Отношение ко мне офицерства реально выражалось в том, что я состоял выборным членом бригадного суда чести и председателем Распорядительного комитета бригадного собрания.
Атмосфера бельского захолустья не слишком меня тяготила. Общественная жизнь – в бригадном офицерском собрании, личная – в более тесном кругу сослуживцев-приятелей и в двух-трех интеллигентных городских семьях, в том числе в семье В.С. и Е. А. Чиж – родителей моей будущей жены – меня удовлетворяли. А от службы и от дружбы оставалось достаточно свободного времени для чтения и… литературной работы. Надо сказать, что еще в академическое время я написал рассказ из бригадной жизни, который был напечатан в военном журнале «Разведчик» (1898). Рассказ хоть и неважный, но испытал я большое волнение, как, вероятно, и все начинающие писатели – большие и малые – при выходе в свет первого своего произведения. С тех пор я печатал очерки из военного быта в «Разведчике» и до 1904 года рассказы и статьи военно-политического содержания в «Варшавском Дневнике» – единственном русском органе, обслуживавшем русскую Польшу. Писал под псевдонимом «И. Ночин», который, впрочем, не составлял секрета…
Воспоминания об академическом эпизоде мало-помалу теряли свою остроту, и только где-то глубоко засела неотвязчивая мысль: каким непроходимым чертополохом поросли пути к правде…
И вот однажды, в хмурый осенний вечер, располагавший к уединению и думам, написал я частное письмо «Алексею Николаевичу Куропаткину». Начиналось оно так:
«“А с вами мне говорить трудно”. С такими словами обратились ко мне Вы, Ваше Превосходительство, когда-то на приеме офицеров выпускного курса Академии. И мне было трудно говорить с Вами. Но с тех пор прошло два года, страсти улеглись, сердце поуспокоилось, и я могу теперь спокойно рассказать Вам всю правду о том, что было».
Затем вкратце изложил известную уже читателю историю. Ответа не ждал. Захотелось просто отвести душу.
Прошло несколько месяцев. В канун нового, 1902 года я получил неожиданно от товарищей своих из Варшавы телеграмму, адресованную «причисленному к Генеральному штабу капитану Деникину», с сердечным поздравлением. Нужно ли говорить, что встреча Нового года была отпразднована в этот раз с исключительным подъемом.
Из Петербурга мне сообщили потом, как все это произошло. Военный министр был в отъезде, в Туркестане, когда я писал ему. Вернувшись в столицу, он тотчас же отправил мое письмо на заключение в Академию. Сухотин в то время получил уже другое назначение и уехал. Конференция Академии признала содержание письма вполне отвечающим действительности. И ген. Куропаткин на первой же аудиенции у государя, «выразив сожаление, что поступил несправедливо», испросил повеление на причисление мое к Генеральному штабу.
Через несколько дней, распростившись с бригадой, я уехал в Варшаву, к новому месту службы.
Летом 1902 года я был переведен в Генеральный штаб, с назначением в штаб 2-й пех. дивизии, квартировавшей в Брест-Литовске. Пробыл там недолго, ибо подошла пора командовать для ценза ротой. Осенью вернулся в Варшаву, где вступил в командование ротой 183-го пех. Пултусского полка.
До сих пор, за время 5-летней фактической службы в строю артиллерии, я ведал отдельными отраслями службы и обучения солдата. Теперь вся его жизнь проходила перед моими глазами. Этот год был временем наибольшей близости моей к солдату. Тому солдату, боевые качества которого оставались неизменными и в турецкую, и в японскую, и в Первую и во Вторую мировые войны. Тому русскому солдату, которого высокие взлеты, временами глубокие падения (революции 1917 года и первый период Второй мировой войны) бывали непонятны даже для своих, а для иностранцев составляли неразрешимую загадку…
На войну
Кончил я командование ротой осенью 1903 года, накануне Русско-японской войны. Я был переведен в штаб 2-го Кавалерийского корпуса, квартировавшего в Варшаве…
Объявление войны застало меня больным. Незадолго перед тем на зимнем маневре подо мной упала верховая лошадь, придавила ногу и проволокла с горы вниз несколько десятков шагов. В результате – порванные связки, кровоподтеки, один палец вывихнут, один раздавлен и т. д. Пришлось лежать в постели. Когда был получен манифест о войне, я тотчас же подал рапорт в штаб округа о командировании меня в действующую армию. Штаб, ссылаясь на неимение указаний свыше, отказал. На вторичное мое обращение штаб запросил, знаю ли я английский язык. Ответил: «Английского языка не знаю, но драться буду не хуже знающих…» Ничего не вышло. Нервничал, не находя себе покоя. Наконец мой ближайший начальник, генерал Безрадецкий, послал частную телеграмму с моей просьбой в Петербург, в Главный штаб. И через несколько дней, к великой моей радости, пришло оттуда распоряжение – командировать капитана Деникина в Заамурский округ пограничной стражи.
Дожидаться выздоровления я не стал. Решил, что до Сибирского экспресса как-нибудь доберусь, а там во время длительного пути (16 дней) нога придет в порядок. Назначил день отъезда на 17 февраля.
В Варшавском собрании офицеров Генерального штаба состоялись проводы – «дорожный посошок» – бокал вина и поднесение мне подарка – хорошего револьвера. Старейший из присутствовавших, помощник командующего округом генерал Пузыревский сказал несколько теплых слов, подчеркнув мое стремление на войну не долечившись.
На случай смерти я оставил в своем штабе «завещание» необычного содержания. Не имея никакого имущества, я привел в нем лишь перечень своих небольших долгов, проект их ликвидации путем использования кой-какого моего литературного материала и просил друзей позаботиться о моей матери.
Мать моя приняла известие о предстоящем моем отъезде на войну как нечто вполне естественное, неизбежное. Ничем не проявляла своего волнения, старалась «делать веселое лицо» и при прощании на Варшавском вокзале не проронила ни одной слезинки. Только после моего отъезда, как сознавалась впоследствии, наплакалась вдоволь вместе со старушкой нянькой.
До Москвы добрался я благополучно. Получил место в Сибирском экспрессе. Встретил нескольких товарищей по Генеральному штабу, ехавших также на Дальний Восток. Еще на вокзале узнал от своих спутников, что в нашем поезде едут адмирал Макаров, назначенный на должность командующего Тихоокеанским флотом, и генерал Ренненкампф, назначенный начальником Забайкальской казачьей дивизии.
С генералом Ренненкампфом во время пути мы были в постоянном общении: в частных беседах и во время докладов, которые кто-нибудь из нас делал на тему о театре войны, о тактике конницы, о японской армии. Ренненкампф делился с нами воспоминаниями о своем походе, весьма скромно касаясь своего личного участия. Устраивали совместно и товарищеские пирушки в вагоне-ресторане, которые, как и впоследствии, в отряде ген. Ренненкампфа, не выходили никогда из пределов воинской субординации.
Генерал присутствовал неизменно и на импровизированных «литературных вечерах», на которых ехавшие в нашем поезде три военных корреспондента читали свои статьи, посылаемые с дороги в газеты. Круг наших впечатлений от поездных разговоров, от бесед с чинами обгоняемых воинских эшелонов и от мелькавшей станционной жизни Великого сибирского пути был ограничен. Писали корреспонденты, в сущности, одно и то же и нам известное. Но любопытен был индивидуальный подход их к темам.
Сотрудник, кажется, «Биржевых Ведомостей», в форме подпоручика запаса, писал вообще скучно и неинтересно. От «Нового Времени» ехал журналист и талантливый художник Кравченко. Нарисовал он прекрасный портрет Ренненкампфа, щедро наделял нас своими дорожными набросками и вообще пользовался среди пассажиров поезда большими симпатиями. Писал он свои корреспонденции интересно, тепло и необыкновенно правдиво. От «Русского Инвалида» – официальной газеты военного министерства – ехал подъесаул П. Н. Краснов. Это было первое знакомство мое с человеком, который впоследствии играл большую роль в истории Русской Смуты как командир корпуса, направленного Керенским против большевиков на защиту Временного правительства, потом в качестве Донского атамана в первый период Гражданской войны на Юге России; наконец – в эмиграции и в особенности в годы Второй мировой войны, как яркий представитель германофильского направления. Человек, с которым суждено мне было столкнуться впоследствии на путях противобольшевистской борьбы и государственного строительства.
Статьи Краснова были талантливы, но обладали одним свойством: каждый раз, когда жизненная правда приносилась в жертву «ведомственным» интересам и фантазии, Краснов, несколько конфузясь, прерывал на минуту чтение:
– Здесь, извините, господа, поэтический вымысел – для большего впечатления…
Этот элемент «поэтического вымысла» в ущерб правде прошел затем красной нитью через всю жизнь Краснова – плодовитого писателя, написавшего десятки томов романов; прошел через сношения атамана с властью Юга России (1918–1919), через позднейшие повествования его о борьбе Дона и, что особенно трагично, через «вдохновенные» призывы его к казачеству – идти под знамена Гитлера…
К сожалению, больная нога ограничивала мои возможности наблюдения. Только в Иркутске я мог, прихрамывая, пройтись по платформе. А когда приехали 15 марта в Харбин, нога моя была почти в порядке.
Заамурский округ пограничной стражи
Для обеспечения маньчжурских железных дорог была создана Охранная стража, вначале из охотников, отбывших обязательный срок службы, преимущественно из казаков, и из офицеров-добровольцев. Стража находилась в подчинении министра финансов Витте, пользовалась его вниманием и более высшими ставками содержания, чем в армии. Необычные условия жизни в диком краю, в особенности в первое время прокладки железнодорожного пути, сопряженные иногда с лишениями, иногда с большими соблазнами и всегда с опасностями, выработали своеобразный тип «стражника» – смелого, бесшабашного, хорошо знакомого с краем, часто загуливавшего, но всегда готового атаковать противника, не считаясь с его численностью.
К началу японской войны Охранная стража, переименованная в Заамурский округ пограничной стражи, комплектовалась уже на общем основании и в отношении боевой службы подчинялась командованию Маньчжурской армии. Но кадры и традиции остались прежние.
На огромном протяжении Восточной (Забайкалье – Харбин – Владивосток) и Южной ветви Маньчжурских дорог (Харбин – Порт-Артур) расположены были 4 бригады пограничной стражи, общей численностью в 24 тысячи пехоты и конницы и 26 орудий. Эти войска располагались тонкой паутиной вдоль линии, причем в среднем приходилось по 11 человек на километр пути. Понятно поэтому, какое значение имел для Маньчжурской армии, для нашего тыла вопрос о сохранении нейтралитета с Китаем.
Явившись в штаб округа, я получил назначение на вновь учрежденную должность начальника штаба 3-й Заамурской бригады. Таким образом, будучи в чине капитана, я по иерархической лестнице перескочил неожиданно две ступеньки, получив и солидный оклад содержания, позволивший мне в несколько месяцев «аннулировать» оставленное в Варшаве «завещание» и позаботиться о матери. Но вместе с тем это назначение принесло мне большое разочарование: 3-я бригада располагалась на станции Хандаохэцзы, охраняя путь между Харбином и Владивостоком. Стремясь всеми силами попасть на войну с японцами, я очутился вдруг на третьестепенном театре, где можно было лишь ожидать стычек с китайцами-хунхузами. Меня «утешали» в штабе, что ожидается движение японцев из Кореи в Приамурский край, на Владивосток, и тогда наша 3-я бригада войдет естественно в сферу военных действий… Но комбинация эта казалась мне маловероятной, и поэтому я смотрел на свое назначение как на временное, решив перейти на японский фронт, как только окажется возможным.
В круг моего ведения входили вопросы строевой, боевой и разведочной службы. Милейший командир бригады, полковник Пальчевский, введя меня в курс бригадных дел, предоставил затем широкую инициативу. С ним я трижды проехал на дрезине почти 500-километровую линию, знакомясь со службою каждого поста. С конными отрядами отмахал сотни километров по краю, изучая район, быт населения, знакомясь с китайскими войсками, допущенными вне полосы отчуждения, – для охраны внутреннего порядка.
Половина пограничников – на станциях, в резерве, другая поочередно – на пути. В более важных и опасных пунктах стоят «путевые казармы» – словно средневековые замки в миниатюре, окруженные высокой каменной стеной, с круглыми бастионами и рядом косых бойниц, с наглухо закрытыми воротами. А между казармами посты – землянки на 4–6 человек, окруженные окопчиком. Служба тяжелая и тревожная; сегодня каждый чин в течение 8 часов патрулирует вдоль пути, завтра 8 часов стоит на посту. Нужен особый навык, чтобы отличить, кто подходит к дороге – мирный китаец или враг. Ибо и простой «манза» – рабочий, и хунхуз, и китайский солдат одеты совершенно одинаково. Китайские солдаты носили малоприметные отличия, так как начальство их обыкновенно присваивало себе деньги на обмундирование. Когда в первый раз я с командиром бригады объезжал линию на дрезине и увидел впереди трех китайцев с ружьями, пересекавших полотно железной дороги, я спросил:
– Что это за люди?
– Китайские солдаты.
– А как вы их отличаете?
– Да главным образом по тому, что не стреляют по нам, – ответил, улыбаясь, бригадный.
На оборонительные казармы на нашей линии хунхузы нападали редко. Но бывали случаи, что посты они вырезывали. История бригады полна эпизодами мужества и находчивости отдельных чинов ее. Не проходило недели, чтобы не было покушения и на железнодорожный путь. Но делалось это кустарно – из озорства или из мести. Словом, в покушениях этих не видно было японской руки, как это имело место на Южной ветке…
К Пасхе я был произведен в подполковники. Интересная служба в Заамурском округе, доброе отношение командира и сослуживцев, хорошие жизненные условия – все эти положительные стороны не могли удержать меня в Хандаохэцзы. Я побывал в Харбине у начальника округа, ген. Чичагова, прося отпустить меня в действующую армию, и получил решительный отказ. В августе решил поехать в Ляоян, в штаб Маньчжурской армии. Явился к начальнику штаба ген. Сахарову, с которым был хорошо знаком по службе в Варшавском округе. Ген. Сахаров объяснил мне, что Заамурский округ подчинен командующему армией только в оперативном отношении, а распоряжаться личным составом он не может… Вернулся я в удрученном состоянии. Выручил, однако, случай: капитан Генерального штаба В. попросился из армии на более спокойную службу по болезненному состоянию. Предложили его ген. Чичагову «в обмен» на меня. Чичагов согласился. И в середине октября я уезжал наконец на юг, провожаемый товарищеской пирушкой и добрыми пожеланиями командира и моего штаба, о которых сохранил наилучшие воспоминания.
Когда я прибыл в штаб Маньчжурской армии, офицер, ведавший назначениями, предложил мне:
– Получена телеграмма, что тяжело ранен и эвакуирован полковник Российский, начальник штаба Забайкальской дивизии ген. Ренненкампфа. Не хотите ли туда? Только должен вас предупредить, что штаб этот серьезный – голова там плохо держится на плечах…
– Ничего, Бог не без милости! Охотно принимаю назначение.
На темном фоне маньчжурских неудач и отступлений среди нескольких старших начальников, пользовавшихся признанием и заслуженной боевой репутацией, голос армии называл и имя ген. Ренненкампфа. Понятна поэтому моя радость. В полчаса собрался. При мне состоял конный ординарец Старков, пограничник, по происхождению донской казак – храбрый и расторопный, проделавший со мной все походы до конца войны, награжденный ген. Ренненкампфом званием урядника и солдатским Георгиевским крестом. И конный вестовой с вьючной лошадью, поднимавшей походную кровать-чемодан «Гинтера», в которой помещался весь мой несложный скарб.
Велел поседлать коней и двинулся в путь к затерянному в горах Восточному отряду ген. Ренненкампфа.
Часть четвертая
В отряде генерала Ренненкампфа
28 октября я прибыл в Восточный отряд ген. Ренненкампфа и вступил в должность начальника штаба Забайкальской казачьей дивизии и штаба отряда. Отряд силою в три полка 71-й пехотной дивизии, три полка Забайкальской казачьей дивизии, с артиллерией и приданными более мелкими частями располагался в трех группах, центральная – в Цинхечене, прикрывая левый фланг Маньчжурской армии.
Более двух недель в отряде было затишье. Шла только невидная и тяжелая работа охранения и разведки в районе, где горные массивы своими извилинами и складками донельзя затрудняли наблюдение, где дороги-тропы извивались глухими коридорами, в которых не раз сверху неожиданно сыпались пули невидимого врага.
В Цинхечене только часть отряда расположена была в фанзах и дворовых постройках, остальные – в землянках. Вырыта яма в аршин глубиной, поставлены жерди, крыша покрыта гаоляновой соломой и засыпана слоем земли; стены, потолок, пол, двери – все из гаоляна. Весь день дымится примитивный камин, сложенный из камней, с торчащей над крышей трубой, сооруженной из банок от керосина. В таких землянках жили люди целыми месяцами, холодной осенью и маньчжурской зимой, когда реомюровский термометр показывал 25 градусов мороза.
Ген. Ренненкампф располагался в маленьком отделении нашей фанзы. Весь штаб – вместе, в одной фанзе, с двумя длинными рядами кан[17], покрытых циновками и постоянно подогреваемых, на которых спали, сидели, писали, обыкновенно и ели, так как маленький стол, втиснутый между двумя рядами кан, не мог удовлетворить всех. Крайняя трудность подвоза в такую даль по горному бездорожью затрудняла продовольствие отряда. Хлеба часто не хватало, довольствовались печеными лепешками, но выручало обилие местного скота и, следовательно, мяса. Офицерский стол не отличался почти вовсе от солдатского. Только изредка, когда какой-нибудь смелый маркитант рискнет проехать в наш отряд – за риск двойные цены – и его по дороге не ограбят, тогда у нас два-три дня кутеж.