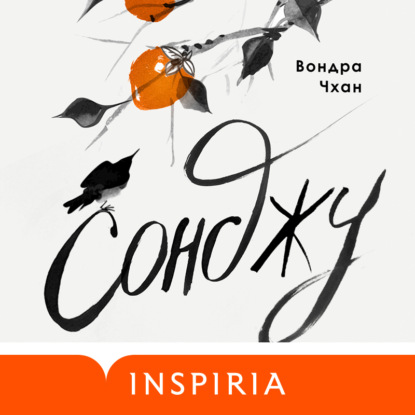Полная версия
Нация прозака
Первый передоз настиг меня в летнем лагере. Кажется, это был 1979 год, мне тогда исполнилось двенадцать, и у меня были тощие ляжки, большие глаза, грудь, похожая на персики, обгоревшая под летним солнцем кожа – нежная и обманчивая красота девочки-подростка, у которой все хорошо, которая вот-вот повзрослеет. Как-то во время тихого часа я валялась на нижней койке двухъярусной кровати, наверху дремала моя подружка Лисанн, а я начала читать книгу с эпиграфом из Гераклита: «Не будь солнца, мы бы жили в ночи»[48]?
Не помню ни названия книги, ни сюжета, ни персонажей, только эпиграф неизгладимо отпечатался в памяти, и с тех пор так и не выходит из головы. И как я ни пыталась вытравить его химическими коктейлями из лекарств, ни старалась заполировать, мне пришлось смириться с тем, что ты – это всегда ты, от себя не убежать.
Правда, есть вариант сдохнуть. Но, конечно, тем летом я не пыталась покончить с собой. Я вообще не знаю, чего я тогда хотела. Может, просто отключиться от своих мыслей. Побыть кем-то другим, не собой.
В общем, я проглотила таблеток пять или десять атаракса[49], который мне тем летом прописали от сенной лихорадки. Как и все антигистамины, атаракс дает сильный снотворный эффект, так что я надолго заснула – настолько, что пропустила все уроки плавания на озере и утренние молитвы у флагштока до самого конца недели – чего, собственно, и добивалась. Я вообще не понимала, как меня втянули во все это – неспешное чередование ньюкомба[50], кикбола и футбола, брасса, плетения из паракорда, все эти занятия по расписанию, которые нужны были лишь для того, чтобы немного потянуть время, пока мы неумолимо приближаемся к смерти. Даже тогда я своим умом двенадцатилетки понимала, что жизнь – это попытка отвлечься от неизбежного.
Я смотрела, как другие девчонки, стоя между коек, сушили феном волосы в предвкушении ночных развлечений, учились накладывать голубые тени, готовясь стать девушками, как они выдумывали разные проблемы с мальчиками вроде: «Как ты думаешь, я ему нравлюсь?» Я наблюдала, как их подача в теннисе становилась все сильнее, как они овладевают простенькими техниками первой помощи, втискивают себя в узкие джинсы Sasson, а поверх – атласные стеганые курточки, розовые или фиолетовые, – и все никак не могла понять, кого они, в конце концов, пытаются одурачить. Разве им не ясно, что все это – просто течение жизни, движение, движение, движение – и все в никуда?
Вокруг сплошной пластик, и мы рано или поздно умрем, так какая разница? Мой девиз.
Стоило мне принять атаракс, как я погрузилась в блаженный сон, и никому в лагере даже не пришло в голову, что со мной что-то не так. Наоборот, наконец-то все было так. Я ничего не чувствовала, и это было приятно, прямо как в строчке из песни Pink Floyd, которая стояла у меня на повторе тем летом. Скорее всего, я тогда приболела – ничего серьезного, обычная простуда или кашель, но я подолгу валялась в постели. Мне не хотелось возвращаться в лазарет, где диметапп, липкая микстура с якобы виноградным вкусом, считался лучшим средством от всех болезней[51]. Вокруг все, наверное, думали, что я отдыхаю и прихожу в себя после легкого гриппа. Или же им казалось, что я и кровать – это норма, точно так же, как мои одноклассники считали нормой, когда я вместо того, чтобы проводить обед в столовой, пряталась в раздевалке, покрывая свои ноги черточками от порезов бритвой, развлекая себя видом собственной крови, словно так и надо проводить время между 12:15 и 13:00 в школе. Если кто-то из психологов и пытался вытащить меня из кровати, то они видели, что я в полной отключке, и, наверное, решили, что проще всего будет оставить меня в покое. Никому особо не было до меня дела.
Кажется, в конце концов тревогу забила Лисанн. Мое тело, накрытое шерстяным одеялом, превратилось в странную константу нашей спальни. Через несколько дней у моей койки объявилась женщина, которая возглавляла команду психологов, – думаю, для того, чтобы уговорить меня показаться врачу. Мне хотелось дать ей понять, что больше всего я как раз жажду внимания врача – да хотя быть какого-нибудь внимания, но не получалось даже просто пошевелиться.
– Ну, и как ты себя чувствуешь сегодня? – спросила она, присев у меня в ногах и пытаясь как-нибудь пристроить рядом папку с расписанием занятий в лагере. Я посмотрела на ее ноги и, хотя перед глазами все расплывалось, все равно заметила варикоз. Зато кеды у нее были безукоризненно белоснежными, словно она надела их впервые.
Все в порядке.
– Может, сходишь поиграть в волейбол с соседками по комнате?
– Нет, – что, разве похоже, что я хочу играть в волейбол – я, скорчившаяся под шерстяным армейским одеялом, дрожащая от холода в разгар июля?
– Ну, что же, – продолжала она как ни в чем не бывало, – тогда, может, тебе стоит поговорить с медсестрой, и мы разберемся, в чем дело. У тебя есть температура? – Она приложила ладонь к моему лбу – жест, который моя мама считала проявлением материнского авторитета, но никак не надежным индикатором болезни. – Нет, нет, – покачала головой. – Скорее всего, тебе просто холодно. Это потому, что ты ничего не ела.
Интересно, подумала я, что она обо мне знает? Заглядывала ли в мое личное дело, да и есть ли в лагере личные дела? Знала ли она, что мне вообще здесь не место? Понимала ли, что мама отправила меня сюда, чтобы на восемь недель получить передышку от роли матери-одиночки? Знала ли, что у нас не было ни гроша, что меня сюда отправили в рамках благотворительной программы, потому что моя мама надрывалась на работе за крошечную зарплату и не знала, что со мной делать во время школьных каникул? Понимала ли, что все это было огромной ошибкой?
– Послушайте, мне не так и плохо. – Я хотела ей приоткрыться. Я надеялась, что если скажу ей всю правду, она настоит на том, чтобы моя мама немедленно приехала и забрала меня отсюда, а ничего другого мне и не нужно было. – Просто у меня аллергия, ужасная аллергия, и пару дней назад я пила таблетки, наверное, выпила слишком много, потому что с тех пор не могу даже пошевелиться.
– Что именно за таблетки?
Я полезла в тумбочку, где держала свои кассеты, книги и таблетки, и потрясла перед ней полупустой баночкой, словно детской погремушкой: «Атаракс. Мне доктор прописал».
– Понятно.
Двенадцати мне еще не было, так что списать все на переходный возраст не получалось. И объяснить никак не получалось. Ни у нее, ни у меня.
Я поймала себя на том, что хочу рассказать все этой взрослой женщине, у которой волосы были подстрижены так красиво, что, если накручивать их на бигуди каждую ночь, можно было все время ходить с настоящей прической, – женщине, которую наверняка звали Агнес или Харриэт – имя, по которому было понятно, что она на целое поколение старше моей матери. Хотела открыть флакончик с атараксом и показать ей, что «надежной» белой крышечкой ребенка не провести. Показать ей эти твердые, хорошенькие таблетки черного цвета. Черная прелесть, так я их называла про себя. Они манили меня, манили красотой, убийственной настолько, что невозможно было устоять и принять только одну. Маленькие черные ангелы смерти. Ну и что, что это был обычный антигистаминный препарат, может, даже не сильнее тех, что покупают в аптеке без рецепта. Ну и что, что человек, который мне их прописал, имел в виду только пыльцу, от которой у меня опухали глаза и я ходила с забитым носом. Ну и что.
Все равно я никак не могла объяснить ей, что меня постоянно мучают страшные мысли, не могла объяснить, что уже отпугнула всех соседок, тащившихся по Донне Саммер и Sister Sledge, ссорившихся из-за ролей Джона Траволты и Оливии Ньютон-Джон, когда они под фанеру разыгрывали в комнате «Бриолин», а я по ночам слушала Velvet Underground на своем дешевеньком плеере. Разве они могли понять, что нет никакого смысла в том, чтобы слушать музыку диско и танцевать по нашей комнатке, если можно лежать на бетонном полу в ванной при свете одинокой лампочки и позволять голосу Лу Рида заманивать меня в жизнь, полную отрицания?
Ни психолог, ни кто угодно другой никогда не смог бы этого понять – что я не хочу быть такой. Что я завидую другим девчонкам из-за того, что они сходят с ума по мальчикам, что они могут быть шумными, веселыми. Что я тоже хочу откидывать волосы за спину, и флиртовать, и шалить, но почему-то просто не могу – не осмеливаюсь – даже попробовать. Что мне будет ужасно плохо, когда через пару недель придет время праздновать мой день рождения за ужином, где будет торт с глазурью. Что когда все начнут петь, а я задую свечи, это будет полным провалом, потому что все будут знать, что и торт, и песня, и остальное – всего лишь тщательно продуманный акт жалости или соблюдения приличий со стороны людей, которые только делают вид, что дружат со мной. Ни психолог, ни кто угодно другой не поверил бы, что я не всегда была такой, что в первом классе я заставила всех девочек считать, что я главная (элементарный трюк, простенькая пирамида Понци: если они не соглашались признать меня боссом, то никто из тех, кого я уже приняла в свою группку, не имел права дружить с ними), а учителю пришлось устроить собрание и объяснять, что все равны и свободны и никаких боссов здесь нет, но мои друзья все равно отказались отречься от меня как лидера. Как мне заставить ее поверить, что это я держала одноклассников в страхе, я была популярной, я снималась в рекламе памперсов в шесть месяцев, а потом и в роликах Hi-C и Starburst, написала серию книжек о домашних питомцах в шесть лет, пьесу по «Убийству на улице Морг» – в семь, а в восемь сама сделала из цветной бумаги, маркеров и темперы книгу с рисунками под названием «Пингвин Пенни», и поэтому ни один человек в здравом уме не смог бы поверить, что я дошла до такого: чуть не покончила с собой в одиннадцать.
Мама считала, что все эти перемены вызваны первой менструацией, как будто менструальная кровь всех сводила с ума, как будто это просто был такой период в жизни, и я могла, в конце концов, поехать в летний лагерь как любой нормальный ребенок. И если моя мама не понимала, что со мной происходит, то как я могла довериться допотопной психологине, которая уже вынесла осторожный вердикт: по ошибке я приняла слишком много таблеток, наверное, из-за постоянного дождя моя сенная лихорадка обострилась так сильно, что я немного переборщила. «Ты же понимаешь, что должна была отдать все рецептурные лекарства медсестре, – сказала она, как будто это все еще имело значение. – Ты должна была сделать это в начале лета. Она бы выдавала их тебе по графику».
Мне стоило сказать: «Я похожа на человека, которому есть дело до лекарств-по-гребаному-графику? Похожа?»
В общем, никаких результатов эта милая беседа не дала. Я увидела, что она приглушенным голосом объясняет другим психологам, почему я так долго спала, а на следующий день кто-то из врачей посерьезнее заглянул ко мне, но в остальном жизнь шла своим чередом.
Почему-то родители не стали просить, чтобы лагерь «Горы Поконо» отправил меня домой. Да что там, когда эта женщина, психолог, рассматривала баночку атаракса, было понятно, что она считает, что опасность для меня представляют именно таблетки, а не я сама. Когда я вернулась домой, мама даже не упомянула историю с атараксом. Папа – в одну из наших субботних встреч, становившихся все более редкими, хорошо, если раз или два в месяц, – все же сказал что-то там про беспокойство. Но мне кажется, что в итоге все решили, что произошла ошибка. Маленький ребенок пробует играть со спичками, и как итог – ожог; подросток, у которого больше возможностей накосячить, принимает слишком много таблеток, и как итог – назовем это небольшим передозом таблеток. Бывает.
В понедельник утром, через два дня после вечеринки, я возвращаюсь в «Дом Крэка на Пятой авеню», также известный, как офис доктора Айры. На часах три, для меня рановато.
Доктор Айра ругает меня за то, что я бросила принимать литий, не посоветовавшись предварительно с ним. Я объясняю, что запаниковала, базедова болезнь и все такое. Он объясняет, что благодаря анализу крови каждые два месяца мы заметим мельчайшие предвестники болезни задолго до того, как она выйдет из-под контроля, и сможем предупредить чрезвычайную ситуацию. Звучит убедительно. Я не могу и не хочу спорить. К тому же доктор Айра говорит, что с моим вторым анализом крови все было отлично, никаких отклонений от нормы. Он считает, что это была простая компьютерная ошибка, запятая не на том месте, и 1,4 превратились в 14. И сейчас показатели уровня тиреотропного гормона идеальные, 1,38.
Само собой, я понятия не имею, что значат все эти цифры, да и желанием спрашивать тоже не горю. Но внутри что-то ноет, и я никак не могу поверить, что все может быть так просто. Вот о чем я думаю: у прозака почти нет побочных эффектов, у лития они есть, но немного, и, по сути, их комбинация превращает меня в адекватного человека – по крайней мере, большую часть времени. Но я подозреваю, что если лекарство в принципе может быть настолько эффективным и настолько сильно влиять на меня, то оно просто не может не навредить, пусть даже не сейчас, а в будущем.
Я как будто слышу, как спустя двадцать лет какой-нибудь врач шепотом произносит: «Неоперабельный рак мозга».
В том смысле, что, если верить закону сохранения энергии, ни материю, ни энергию нельзя уничтожить, можно лишь превратить во что-то еще, и я до сих пор не могу точно сказать, что случилось с моей депрессией. Полагаю, она все еще торчит где-то у меня в голове, разрушает серое вещество или, еще хуже, ждет, пока часики прозака перестанут тикать и она сможет снова наброситься на меня, отправить меня прямиком в кататонию, как тех персонажей из «Пробуждения»[52], которые оживают на пару месяцев, но потом леводопа[53] перестает работать, и они снова впадают в ступор.
Каждый раз, когда я прихожу на прием, я делюсь своими опасениями с доктором Айрой. Говорю что-нибудь вроде: «Да ладно, давайте начистоту, если это лекарство так сильно мне помогает, то у него наверняка должны быть еще не изученные побочные эффекты».
Или пробую с другой стороны: «Послушайте, мы оба знаем, что я была в числе первых пациентов, которые стали принимать прозак, как только ФДА[54] его одобрило. Откуда мы знаем, что я не стану прецедентом, который докажет, что прозак способен вызвать, ну, скажем, неоперабельный рак мозга?»
Он говорит всякие успокаивающие вещи, снова и снова объясняет, насколько тщательно наблюдает за моим состоянием – при этом признавая, что психофармакология скорее искусство, а не наука, что и он, и его коллеги, по сути, бредут в темноте на ощупь. И ведет себя так, будто миллионы врачей не говорили то же самое женщинам про диэтилстильбэстрол[55], про внутриматочную спираль, про силиконовые импланты для груди, как будто они не утверждали, что валиум не вызывает зависимости, а триазолам[56] – всего лишь безобидное снотворное. Как будто коллективные иски против фармацевтических компаний еще не стали привычными.
В любом случае на следующий день я отправляюсь в Майами-Бич, и я так устала быть несчастной, что принимаю две маленькие бело-зеленые капсулы прозака, когда выхожу из его кабинета, и каждый день прилежно пью двойную дозу лития вместе с двадцатью миллиграммами пропранолола – бета-адреноблокатора, который понижает давление, потому что без него из-за лития у меня дрожат руки и меня постоянно трясет. За одними лекарствами всегда следуют другие.
И я не могу поверить, когда смотрю на себя в зеркало, словно со стороны, глазами других людей: молодая, полная сил, двадцать пять лет, румяная кожа, заметно очерченные бицепсы – черт, не могу поверить, что здоровый человек в своем уме не способен понять, что в моей жизни слишком много проклятых таблеток.
1
Девочка, подающая надежды
И вдруг, пока Селден отмечал все тончайшие оттенки, которыми она творила гармонию в этом круге, его посетило откровение: раз возникла необходимость столь ловко управлять ситуацией, ситуация должна быть действительно отчаянная.
Эдит Уортон. В доме веселья[57]Бывает, что самые тяжелые ситуации, как мгновенный взрыв, ни с того ни с сего вносят полную ясность. Ты бьешь кулаком по оконному стеклу, и вот уже повсюду кровь, забрызганные красным осколки стекла; ты выпадаешь из окна и ломаешь пару костей, раздираешь кожу. Швы и гипс, лейкопластырь и антисептик исцеляют и успокаивают раны. Но депрессия – не чрезвычайная ситуация и не стихийное бедствие. Скорее, она похожа на рак: вначале его не разглядит самый опытный врач, а затем однажды – бам! – в твоем мозгу, или желудке, или под лопаткой уже живет смертоносный комок весом семь фунтов, и эта штука, выращенная твоим собственным телом, на полном серьезе собирается тебя убить. Так и депрессия: медленно, год за годом, сердце и разум вбирают в себя информацию, а в организм встраивается компьютерная программа полного отчаяния, постепенно делая жизнь все более и более невыносимой. Но запуска этой программы ты даже не заметишь, будешь думать, что все в норме, ты взрослеешь, тебе вот-вот исполнится восемь лет, или двенадцать, или пятнадцать, а потом приходит день, когда ты понимаешь, что твоя жизнь исключительно ужасна, продолжать жить бессмысленно, это кошмар, черное пятно на белом полотне человеческого существования. И однажды утром ты просыпаешься от страха – страха оттого, что надо продолжать жить.
Правда, меня сама мысль о жизни вообще не пугала, потому что я считала, что и так уже умерла. Сам же процесс умирания, увядание моего физического тела, был всего лишь формальностью. Мой дух, мои эмоции, как бы вы ни называли весь этот внутренний беспорядок, – все это не имело ничего общего с физическим состоянием, все это давно исчезло, отмерло, оставив в живых лишь давление самой чертовски богонеспасаемой боли, которая выматывала мне нервы, а позвоночник зажала раскаленными щипцами и не отпускала.
Вот что я пытаюсь объяснить: депрессия никак не связана с жизнью. В жизни случаются и грусть, и боль, и горе, и все они естественны, если приходят в свое время, – неприятны, но совершенно естественны. А вот депрессия – это совсем другой мир, и в нем главное – отсутствие: отсутствие аффекта, отсутствие чувств, отсутствие ответных реакций, отсутствие интереса. И неотделимая от серьезной клинической депрессии боль – попытка природы (которая, в конце концов, не терпит пустоты) заполнить этот вакуум. И люди, переживающие глубокую депрессию, больше всего похожи на зомби, живых мертвецов, во всех смыслах.
А страшнее всего, что спроси любого, кто переживает депрессию, – как он до такого докатился, где свернул не туда, – никто не ответит. Как в том знаменитом эпизоде из романа «И восходит солнце»[58]: Майка Кэмпбелла спрашивают, как он разорился, и все, что он может ответить: «Постепенно, а затем внезапно». Когда меня спрашивают, как я сошла с ума, я всегда прячусь за эту фразу.
Думаю, что все началось, когда мне было одиннадцать или около того. Может, десять, или двенадцать, но точно до наступления подросткового возраста. А поскольку о половом созревании еще не было и речи, то и предвидеть никто ничего не мог.
Я помню тот день, 5 декабря 1978 года, мне было одиннадцать, я обнаружила на своих белых хлопковых трусиках какие-то коричневые пятна, и это явно была засохшая кровь. Вечером мы с мамой пошли в Bloomingdale’s – выбирать в Bloomingdale’s, покупать в Alexander’s, такое у нас было правило, – чтобы купить зимнее пальто, и я рассказала ей, что заметила пятна на нижнем белье, что, наверное, у меня начались месячные (в начальной школе, где я, собственно говоря, тогда училась, мы с Лисанн прочитали про менструацию в книжках Lifecycle[59]), а в ответ она только и смогла сказать: «О нет». Может, потом она добавила что-нибудь вроде: «Господи, помоги, беда постучалась в мою дверь». В любом случае, что бы она там ни сказала, я четко поняла одно: начиная с сегодняшнего дня я буду меняться и становиться мрачной и проблемной, да что там, я уже мрачная и проблемная.
Каждый раз, когда я пытаюсь понять, где свернула не туда, когда именно по собственной глупости выбрала не ту из двух дорог, первое, о чем я думаю, – что раз я родилась прямо в разгар Лета любви (31 июля 1967 года), на перекрестке самых разных социальных революций, от браков по взаимному согласию до феминизма, свободной любви и Вьетнама, и их последующего вытеснения панк-роком и рейганомикой, – то иначе и быть не могло. Мне, конечно, ненавистна сама мысль, что развитие личности, со всей сложностью и неповторимостью каждого человека, можно свести к простенькому объяснению вроде «такое было время», но все же контркультура шестидесятых – вместе с ее альтер эго, алчностью восьмидесятых, – оставила на мне бесчисленные отпечатки.
В любом случае меня вырастили не какие-нибудь пьяные в хлам, сумасшедшие родители-хиппи, что укуривались в Центральном парке, разгуливая с торчащим из слинга ребенком, притащили меня на Вудсток, когда мне было два, и из-за своей безрассудной постподростковой безответственности умудрились испортить во мне все, что только было можно. Скорее, все было как раз наоборот. Моя мама была ярой республиканкой и трижды голосовала за Никсона и поддерживала расширение военных действий во Вьетнаме; а еще, будучи студенткой Корнелла, в начале шестидесятых, она даже ходила слушать Уильяма Фрэнка Бакли-младшего[60]. Мама рассказывала, что в ее либеральном колледже оказалось так мало желающих послушать Бакли, что ей пришлось расстелить пальто поверх нескольких кресел, как будто она заняла их для знакомых, что вот-вот придут. (Кстати, моя мама – единственный известный мне человек, который продолжает считать Оливера Лоренса Норта[61] героем.) Отца же политика не интересовала вообще, у него не было карьерных амбиций, и он был мелкой сошкой в какой-то гигантской корпорации. Он носил короткую стрижку, ботанские очки в стиле Бадди Холли[62], читал Айзека Азимова и слушал Тони Беннетта. Когда мне было восемь, он как-то упомянул, что со стороны президента Форда простить Никсона было дерьмовым поступком, потому что врать всегда плохо, – самый близкий к политике разговор из всех, что я помню. Короче говоря, в моих родителях не было ничего необычного, хотя время от времени они и покупали плохие альбомы Мэри Трэверс[63].
Родители, как и большинство предков моих сверстников, мало напоминали тех свободолюбивых, расслабленных, ни к кому и ни к чему не привязанных беби-бумеров, которые определили шестидесятые. Для всего этого они, родившись в 1939-м и 1940-м вместо 1944-го и 1945-го (когда культура становится настолько стремительной, пять лет – огромная разница), были слегка староваты. К началу шестидесятых большинство родителей моих ровесников уже окончили колледж и перешли в будничный рабочий мир – за несколько лет до того, как студенческие протесты, антивоенная деятельность и зарождающаяся культура секса, наркотиков и рок-н-ролла стали обычным делом.
К тому времени, когда радикальные шестидесятые вышли на пик, мы, дети, уже родились, и наши родители внезапно обнаружили, что не знают, чему можно верить: старомодным представлениям о том, что дети должны расти в традиционной семье, или непонятному новому ощущению, что возможно все, что другая жизнь возможна, стоит лишь протянуть руку. И вот они уже связаны узами брака, потому что это считалось обязательным, в комплекте с детьми, рожденными почти случайно, в мире, который внезапно стал скандировать: «Долой обязанности! Долой случайности!» Разминувшись на пару лет с возможностью по полной насладиться плодами культурной революции, наши родители остались ни с чем. Свобода не свалилась им на голову, она обошла их по касательной. И вместо того, чтобы не спешить со свадьбой, они стали разводиться; а вместо того, чтобы стать феминистками, нашим матерям пришлось стать домохозяйками без дома. Множество неудачных браков было расторгнуто людьми, оказавшимися недостаточно молодыми и свободными (читай – от детей) для того, чтобы начать все заново. И их недовольство, ощущение, будто их загнали в тупик, вылилось на нас. Воспитывать ребенка вместе с человеком, которого ты со временем начал презирать, наверное, сродни ощущению, что ты попал в страшную аварию, а затем всю жизнь вынужден навещать парализованного человека, который сидел во второй машине: «Никто не позволит тебе забыть о своей ошибке».
Мои родители – идеальная тому иллюстрация. Бог знает, что в них вселилось, когда они в принципе решили пожениться. Может, дело было в маминых многочисленных двоюродных братьях и сестрах, потому что, когда они все стали играть свадьбы по очереди, она вроде как обязана была последовать их примеру. В конце концов, если посмотреть на ситуацию ее глазами, в начале шестидесятых брак был единственным способом вырваться из родительского дома. Мама хотела учиться в Корнелле на архитектора, но бабушка сказала, что в лучшем случае женщина может рассчитывать стать секретаршей у архитектора, и чтобы подобраться поближе к этой цели, мама пошла на факультет истории искусств. Третий год учебы она провела в Сорбонне, попадая во все тщательно продуманные приключения, как и положено девочке из еврейской семьи в Париже: брала напрокат мопед, ходила в черной накидке[64], встречалась с парочкой аристократов, но, окончив колледж, вернулась к родителям, чтобы оставаться рядом с ними, пока ей не повезет переехать в дом своего мужа. (Само собой, находились и женщины похрабрее, которые отказывались следовать этому правилу, брали жизнь в свои руки и снимали квартиры-поезда[65]