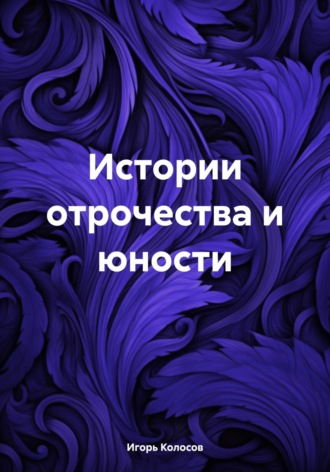
Полная версия
Истории отрочества и юности

Игорь Колосов
Истории отрочества и юности
Оглавление
1. Преддверие первой любви
2. Начальная школа
3. Соседские мальчишки
4. Сережа
5. Лето
6. Детские сады
7. Соседи
8. Родственники
9. Деревня
10. Двоюродная сестра
11. Леня
12. Река
13. Ваня
14. 5-й класс
15. Две Лены
16. Учителя
17. Одноклассники
18. Футбольные страсти
19. Первый выезд в Россию: Соликамск
20. Перелом руки
21. Желтуха и соблюдение диеты
22. Второй выезд в Россию: Великие Луки
23. Возвращение Вани
24. Первое знакомство
25. День рождения: 14
26. Первые свидания
27. Саша
28. Первая близость
29. День рождения: 16
30. Эдик
31. Третий выезд в Россию: Подмосковье
32. Школа № 5
33. Она
34. Попытка суицида
35. Клетка
36. Лето 91-го
37. Гомель и Политех
38. Сергей Спонсор
39. День Рождения: 18
1. Преддверие первой любви
Я не помню ее имени. Не помню ее лицо. Она – лишь смутный образ из далекого прошлого. Я даже не могу сказать, что это было первой любовью в моей жизни. Скорее неким преддверием.
Мне было лет пять, и это происходило в детском саду. Единственное, что я помню – ее волосы. Светлые и длинные. И, кажется, вьющиеся. Быть может, поэтому в дальнейшем для меня станет таким важным, какие у моей девушки или женщины волосы.
Вьющиеся локоны закрывают тонкие плечики. И частично закрывают лицо. Наши раскладушки рядом. Я справа от нее. Это «тихий час», самое его начало. Раскладушки обычно ставят в нашей группе в три ряда, они постепенно заполняются детьми, по мере того, как каждый находит свою кровать – по нашивке с фамилией или инициалами на матраце, – раздевается до трусов, майки и забирается под одеяло. Почти всегда идет своеобразная игра – чей ряд заполнится раньше, и кто победит. Те, кто уже в кроватях, сидят, вытянув ноги и упершись для удобства руками – отводят их назад и немного в стороны. Наши койки узкие, стоят вплотную, и, если постараться, я ставлю левую руку так, что она касается ее правой руки. Вот так просто: мое предплечье и ее предплечье. Она следит за ребятами и даже не замечает этого касания – это естественно, некая случайность. Мне хорошо. Я уже не слежу за игрой: слова тех, кто подбадривает и поторапливает оставшихся, кто еще не лег, проходят мимо моего сознания. Для меня существует лишь это касание и ее рука.
Я еще не знаю, что такое женщина, что вообще происходит между мужчиной и женщиной, но что-то внутри меня, пробуждаясь, опережая развитие и потребность, вынуждает касаться руки девочки, по случайности оказавшейся на соседней раскладушке.
Как часто мы оказывались рядом на «тихом часу»? Я не помню. Быть может, немало раз. Быть может, это случилось лишь однажды. Это длится считанные секунды, но они запомнятся мне гораздо отчетливей, нежели многие другие моменты в жизни детского сада. Преддверие… Касание… Теплая гладкая кожа… Локоны… Секунды…
Я не найду ее потом на фотографии выпускной группы детсада или на новогодних фото, я даже в точности не уверен, что ее там нет. Скорее всего, нет, иначе я узнал бы ее? Ее след затерялся, как теряется все наше прошлое, которое уходит от нас все дальше и дальше. Даже захоти я из принципа узнать ее имя, как она выглядит теперь, каким стала человеком, даже подключи к этому частного детектива, вряд ли бы из этого что-то вышло. Пусть так. Наверное, это и к лучшему.
То время сохранило в памяти множество обрывочных событий-образов. Разных, без всякой логики, вне зависимости от их важности и времени, когда это случилось. В чем-то это похоже на сновидения, и это в очередной раз вынуждает задаваться вопросом: что есть реальность? Память оставила мне все это, как набор вещей, «уцелевших» после переезда в новый дом. По сути, можно обойтись без них, но и необязательно выкидывать – пусть полежат. И эта пауза, пока вещи – ненужные? – находятся под рукой, вынуждает брать их, рассматривать и вспоминать.
Я помню, как отец пристыдил меня, что я испугался собаки, небольшой и незлобной, просто встретив ее на улице, куда, опережая отца, выбежал с территории детского сада. Я подскакивал, удаляясь от него вприпрыжку, возможно, игнорируя требование не спешить, и тут вдруг вернулся к нему и пошел рядом, как привязанный, а он увидел псину и обо всем догадался. Сейчас, будь я на его месте, я не стал бы стыдить собственного сына, но кто знает, кто и как должен поступать в том или ином случае?
Отец вообще почти всегда забирал меня из детсада, в последние год-два. Я даже не помню, чтобы меня хоть раз забирала мать. Наверное, стерлось из памяти. Просто отцу было удобно делать это по пути с работы. Частенько он вел меня в пивбар – да, именно так он тогда назывался, – расположенный в бывшем католическом костеле, которому на заре девяностых суждено было превратиться в «Витаминный бар» – для молодежи это стало модным местом, и там всегда подавали вкусное мороженое с разными сиропами, – а уже позже, ближе к нулевым, опять стать католическим костелом, единственным в городе. Здесь всегда царили полумрак и прохлада из-за высоких узких окон, расположенных слишком высоко, чтобы в них выглянуть. Отец брал себе пиво, а мне мороженое, нередко я любил попробовать жареный горох – любимую из закусок. Я уплетал по зернышку и посматривал на верхний внутренний балкончик над входом – там находилось чучело зубра, и выглядел он монументально, настоящим, с живыми проницательными глазами: некий страж, который следит за порядком и всегда провожает взглядом тех, кто выходит. Я смотрел на зубра снизу вверх в обоих смыслах.
Помню, как зимой после детсада мама катала меня на санках, тащила за собой, а я сидел, довольный, мне это так нравилось, и лишь спустя годы я стал понимать, какой больной была моя мама, какой уставшей после своей парикмахерской, где все работали на «выполнение плана». Мы тогда жили на районе Береговая в северной части города, в доме-бараке родителей отца, у деда и бабы, где нам выделили одну небольшую комнатку – там я провел первые пять с половиной лет своей жизни. Именно там я стал впервые осознавать себя, там были первые друзья, с которыми я играл. Именно там я в первый раз сломал левую руку в пятилетнем возрасте, когда, погнавшись за котом, не обогнул угол веранды. Потом рука срослась неправильно, и врач ломал ее повторно. Помню, как я орал на него, используя настоящие взрослые ругательства, когда он что-то делал с моей рукой. Вряд ли врач не использовал наркоз, быть может, это происходило во время предварительного осмотра. Похоже, именно из-за этого мое левое предплечье чуть-чуть короче правого.
Я помню, как неловко еще бил по мячу в старшей группе, играя в футбол – эта игра была стержнем, основой моего детства, – а воротами были, конечно же, два дерева – о, старый добрый Советский Союз! В те времена в маленьком провинциальном городке воротами могло быть что угодно: секция из сеточного ограждения детсада, ворота гаража, приспособление для выбивания ковров из трех труб – наиболее похожий на настоящие ворота вариант, узкие и высокие, и, естественно, вездесущие деревья. Даже настоящий футбольный мяч я впервые получил лишь в середине восьмидесятых, когда пошел в пятый класс, а мама ездила в Москву и каким-то невероятным образом купила мне такой подарок – я рассматривал его, этот футбольный мяч, когда вернулся из школы, а дома никого не было, смотрел и не верил в это чудо, хотел орать и прыгать, а быть может, так и было, и я просто не помню. И я точно знаю, что не меньшую радость испытывала моя мама. Всего лишь один футбольный мяч! Я готов был молиться на него, спать с ним, есть и не выпускать из рук, куда бы ни пошел. В памяти даже осталась дата, когда мяч стал моим – 20-го октября 1985-го. Если и существует первая любовь не к человеку, а к вещи, она была к этому мячу.
Помню в средней группе одного мальчика на год старше, по кличке Исинди. Быть может, это было как-то связано с лимонадом с похожим названием, не знаю. Площадки наши разделялись чисто номинально, и какое-то количество раз он дразнил меня, захлебываясь смехом, даже чем-то кидал. Наверное, причина была в моей летней шапке, действительно смешной. Я делал вид, что ищу что-то на земле, что принимаю его насмешки и перевожу все в шутку, а сам смущался, боялся, но упорно не хотел показать, насколько обижен и разозлен. В дальнейшем – в девяностых – мальчик вырастет и станет валютчиком, позволив себе уже в молодом возрасте гораздо больше, чем обычный человек – такие нигде не пропадут. При этом – я это случайно узнаю – он будет страдать от комплекса неполноценности, ничем не обоснованного.
Я помню круглые увеличительные стекла, выпуклые с одной стороны. Их принес один мальчик, который потом будет семь лет моим одноклассником. Мы их катали друг другу, как некие колесики. Почему-то они настолько зацепили меня, что я хотел их в свою собственность, но, конечно, не получил. Только и оставалось, что играть с ними в группе, но этого явно было недостаточно.
Помню, как терпел, когда хотелось в туалет «по большому», а в группе были девочки, и кто-то из них мог зайти в туалет в любой момент. Я так стеснялся, как больше не стеснялся никогда в жизни, и эти моменты отравляли мне жизнь. Живот скручивало, усиливалась боль, я сидел, как самый больной ребенок на свете, и ничего не делал. Когда природа брала свое, и мне приходилось сдаться, после туалета я сразу же веселел, заводился, как моторчик, заправленный новой порцией горючего, и даже воспитательница замечала это.
Помню, как один мой одногруппник, рыжий, круглолицый и хитрый, напевал фривольную песенку.
Широка страна моя родная, много в ней подушек, простыней.
Приходи ко мне, моя родная, будем делать маленьких детей.
Я хохотал, подпевая следом за ним, но абсолютно не понимал лежащий на поверхности смысл песенки – о физиологии человека и воспроизведении себе подобных я узнаю еще годы спустя.
Память не оставила мне каких-то особых моментов, связанных с воспитательницей или няней, наверное, потому что они менялись. Я также не помню, чтобы в группе общался чаще с каким-то определенным ребенком. Похоже, как нередко бывает в раннем детстве, я дружил «со всеми понемногу». Последний четкий эпизод детсадовского возраста, перед школой – подарок отца на 7-летие, день рождения, приходившийся на середину лета. Он подарил мне револьвер, который выглядел, как настоящий. В те годы, заполненные игрой «в войнушку», «собственное оружие» было гораздо предпочтительнее ветки, палки и тому подобных «заменителей», и на дороге не валялось. Помню, с каким восторгом я рассматривал игрушку, и, хотя в дальнейшем я не стал владельцем собственного настоящего оружия, вообще не стремился к этому, этот подарок – обычный игрушечный пистолет – запомнился на всю жизнь.
Детский сад № 21 до сих пор находится там, на улице Розы Люксембург, и, когда я прохожу или проезжаю мимо, мой взгляд автоматически – чем бы ни были заняты мои мысли – направляется на это двухэтажное кирпичное здание.
2. Начальная школа
Это здание в виде буквы Н посреди так называемого частного сектора тоже было кирпичным, одна часть – двухэтажная, она выходила на «большую площадку», а другая, вдоль улицы – в три этажа. Здесь я провел десять лет своей жизни, гораздо больше, чем в детском саду. Школа № 2, единственная в городе на тот момент с французским языком. Я попал в 1-й «Б», оставшись «на этой букве» до выпускного класса. Лишь две девочки и один мальчик оставались моими одноклассниками на протяжении всех десяти лет. Остальные менялись после 3-го и после 8-го – или после 9-го, по новому счету, при введении 11-летней школы.
Первый год школы также остался в памяти в виде обрывочных образов-воспоминаний, как в детском саду. Но теперь школа была тесно связана с местом, где я жил.
В пяти минутах ходьбы от школы находились панельные и кирпичные пятиэтажки Центрального района, в просторечье его называли «Площадь». Примерно домов двадцать разной длины (половина из них – так называемые «хрущевки» с миниатюрными кухнями), компактно расположенных, с маленькими зелеными двориками, с двумя массивами гаражей между ними, двумя котельными и четырьмя детскими садами, где так удобно было играть и где во множестве росли яблоки – основное бесплатное уличное угощение детворы, с двумя продовольственными магазинами «Дружба» и «Юбилейный», сохранившими свои названия спустя десятилетия. В городе, протянувшемся вдоль Днепра всего на семь километров, а в ширину не превышавшем двух-трех, Площадь занимала самое удобное и стратегическое положение: Советская – центральная улица города – рядом, до реки и пляжа минут 10-15 ходьбы, до вокзала – 20, до центрального рынка – 15, все близко.
Именно там мои родители в год моего шестилетия получили небольшую двухкомнатную квартиру на втором этаже шестиподъездного дома. Получили – тогда в Советском Союзе квартиры в новых многоэтажках не покупали, а получали, как работники того или иного производства. Там у меня впервые появилась своя комната. Наши три окна выходили на юго-восток на улицу Комсомольскую, тогда еще не асфальтированную, за которой простирался вездесущий частный сектор.
Я был единственным ребенком, и львиную долю своего времени я проводил один, моя комната и вообще родительская квартира была каким-то отдельным миром, что касается игр и времяпрепровождения. Даже становясь старше и чаще общаясь с соседскими ребятами, я все равно вел некую параллельную жизнь, где я играл один, и где все было замешано на воображении. Это началось еще с детсадовского возраста и плавно перетекло в школьное время.
Чаще всего я играл в свой напольный или «накроватный» – аналог настольного – хоккей или футбол. Воротами в хоккее обычно бывали ролики на четырех колесиках, которые я ставил боком по «краям площадки». Я брал пальцами счетную палочку – клюшку, а игроками были мои руки, причем в команде было по несколько игроков, которые передавали друг другу шайбу-пуговицу в те места, где должны были по идее находится партнеры (которые, конечно же, непрестанно перемещались), и которые моментально заполняла моя руку с «клюшкой», чтобы дать новый – очередной пас. Так я и гонял пуговицу, сгорбившись, сидя на коленках, причем у меня «игроки» сталкивались, делали проходы, обводя «соперников», бросали «шайбу» с разных дистанций и вскидывали «клюшки» кверху, когда «шайба» попадала в ворота. Чуть позже у меня появились игрушечные хоккейные ворота, очень похожие на настоящие, и мне особенно нравилось забрасывать туда шайбы. Даже спустя годы моя мама удивлялась, с каким азартом я играл в подобные игры, и как вообще такое могло прийти в голову.
С «футболом» дело обстояло сложнее. «Мяч» – деревянный крашеный шарик – не мог так произвольно перемещаться, как пуговица, он укатывался не пойми куда, и здесь я использовал руки, дабы показать куда полетел мяч после удара. Естественно, подобная трудность лишала футбол той легкой прелести, которая была присуща моему хоккею. Футболистами обычно бывали оловянные солдатики, причем каждая фигурка чаще всего символизировала какой-то клуб, как отечественный, так и зарубежный. Да и игра шла обычно в одни ворота, ибо с двумя было неудобно. Воротами постоянно был положенный плашмя, распахнутый и пустой прямоугольный сундучок из кожзаменителя, в который я складывал свои мелкие игрушки. Он напоминал мне ворота с глубокой в длину сеткой. Здесь я не столько отдавался течению игры, как в «хоккее», сколько играл в воображении: комментировал игру и удачные моменты для несуществующих зрителей.
После футбола-хоккея шла «война» или ее эквивалент – морские сражения. И здесь кроме солдатиков воинскую повинность у меня несли шахматы, небольшие деревянные фигурки – к тому же их легко было разделять на вражеские армии: белые и черные. Шахматы были даже удобнее солдатиков – более устойчивые и приземистые, особенно удобные в битве «на море», где воины находились в «лодках и кораблях» – коробках из-под шашек, шахмат или других подходящих по размеру картонках. Когда отец приобрел – наверное, ему подарили – еще одни шахматы, такие же небольшие и деревянные, у меня начались настоящие баталии на море благодаря численности. Я мог занять большую часть общей комнаты – зал, как ее называли. Корабли «разного водоизмещения», с различным командным составом бороздили воды пролива, брали друг друга на абордаж, команды сходились в рукопашной, а перед этим они бомбардировали друг друга – обычно использовались небольшие бочонки лото плюс какие-то мелкие предметы, я бросал – то есть корабль производил выстрел – произвольно, и разрушения и смерть чужих моряков могли быть какими угодно.
Еще один вариант, совмещавший битву на море и на суше – это атака крепостей на кораблях. Здесь одна из сторон находилась в крепости, чей фундамент состоял из чего-то потяжелее, а сверху – где находились солдаты-защитники – ставилось что-то попроще, что могло «взрываться», ломаться и отлетать, при выстрелах с «кораблей». Конечно, такой бой чаще всего заканчивался штурмом крепости.
Эти игры продолжались вплоть до раннеподросткового возраста, причем война протянула гораздо дольше.
Еще один эквивалент игры, но как таковой ею не являвшейся, было «построение домика» из раскладного столика, однажды купленного родителями. Я просто накидывал сверху широкое покрывало, и укрытие-домик было готово. Я с ним не то чтобы играл, просто использовал, чтобы спрятаться и побыть одному. Причем часто любил прийти со школы, сделать домик и забраться туда. Вроде бы это продлилось до конца начальных классов, и я просто перестал вмещаться под столиком, ибо даже в семь лет я мог находиться там, лишь поджав ноги и свернувшись калачиком. Странное стремление, наводящее мыслями на утробу матери, где человек впервые и появляется в этой реальности.
После переезда от деда и бабы с Береговой, еще до школы, здесь появился первый друг, Сережа, с ним я уже ходил в детсад в одну группу, и который потом учился в параллельном классе. Гораздо позже я осознал, что он постоянно выманивал у меня игрушки и вещи, а я готов был отдать все, что попросили. Взамен же я не получал почти ничего. Он был хитрый и скользкий, этот Сережа, но он жил рядом, мы вместе ходили в детсад, им были не очень-то довольны мои родители, но больше никого такого же возраста в доме не было, и он все же был моим другом – мы вместе проводили время, а перестали дружить, когда уже пошли в школу. В том возрасте еще не осознаешь, каковы люди, подходят ли они тебе, и стоит ли с ними общаться. В том возрасте вопрос так вообще не стоит. И кто знает, как правильнее.
Первый класс, особенно поначалу, привнес в мою жизнь дискомфорт. Все иначе, все по-другому. Я даже поначалу боялся своей первой учительницы, Марии Степановны, хотя после остались лишь теплые воспоминания. В школе появились не только старшие ребята, которые могли обидеть, здесь явила себя примитивная иерархия «кто у вас самый сильный в классе?». И я, живший до этого в тепличных условиях, единственный ребенок в семье, не мог этому обрадоваться. Помню, поначалу у нас был самым сильным Вова, его звали Липа. Но как-то этот отрезок вышел скоротечным, я даже не помню, как это произошло, и отец однажды не объяснил мне, чтобы я всегда давал сдачи и не боялся, и вот абсолютно внезапно из запуганного мальчишки я стал «одним из самых», и мой дневник – при хороших, в общем, отметках – запестрел красными надписями-предупреждениями: бегал на перемене, бил с компанией мальчика, плохо вел себя в классе, дрался на перемене и так далее. Как-то меня все оставили в покое, я стал «авторитетом» на годы вперед, и снова вернулся в свое мирное существование, которое и было моей сутью.
Первые три класса как-то слились в нечто общее, и лишь последний год начальной школы привнес что-то особое: я стал обращать внимание на девочек и даже пару раз влюбился. Это любопытным образом сочеталось еще с одной составляющей моего детства: игрой в мушкетеров. В третьем классе как раз прошел по телевизору показ фильма «Д’Артаньян и три мушкетера» с Боярским в главной роли, и в мою жизнь прочно вошли «стычки» между гвардейцами кардинала и мушкетерами короля. Конечно же, я был чаще всего Д’Артаньяном или Атосом – почему-то из всех, кроме Д’Артаньяна, мне больше нравился хладнокровный и немного циничный Атос. Лишь однажды я был Арамисом, а Портосом всегда был Липа.
Игры в мушкетеров будут периодически повторяться, продолжаясь, пока не сойдут на нет в связи с возрастом – где-то в конце средних классов школы. Но первый плод этой игры мы сорвали именно в третьем классе. Мы выламывали ветки из кустов, очищали их, и вот – шпага мушкетера готова. Сейчас я понимаю, что мы могли запросто повредить друг другу глаза при «фехтовании», нанести какую-то иную травму, но, к счастью, не произошло ни одного несчастного случая. Если не считать одного маленького «ранения» у меня, но это случилось, наверное, уже в 4-м или 5-м классе.
Почти всегда, стоило мне стать Д’Артаньяном, Атосом становился Валера, и наоборот. Высокий, худощавый и гибкий, он фехтовал почти лучше всех и по праву был кем-то из «лучших мушкетеров». Бывало мы вдвоем с ним устраивали поединок, приходя после уроков в школу без «гвардейцев кардинала». И в этом случае Д’Артаньян и Атос фехтовали также неистово, как и против своих заклятых врагов. В пылу поединка мы могли спускаться и подниматься по склонам сточной канавы – типа небольшого оврага – перед школой. Однажды на таком склоне я пропустил выпад Валеры-Атоса, и конец ветки вонзился мне в губу. Крови было немного, как и боли, но, малость охлажденные случившимся, поединок мы прекратили, направившись домой, но я точно помню, что не спешил стереть кровь, а как истый «гасконец» шел с кровавым подтеком на губе и даже поймал пару испуганных взглядов прохожих. Я даже «помогал» крови – пальцами – оставаться на месте, являя миру свое мужество.
Но что за мушкетер без любви? И я этого также не избежал. В 3-м классе были две основные влюбленности: Юля и Катя. Юля была высокой и смугленькой – кажется, она приехала к нам с родителями из Западной Украины. У нее была шикарная – настоящая – родинка в уголке губ, длинные каштановые волосы, вьющиеся, какие-то колдовские. И глаза – с длинными ресницами, большие и зеленые. Катя была невысокой блондинкой. И – конечно, с длинными светлыми волосами, шикарными и вьющимися. Помню, как сидел на задних партах и смотрел на нее со спины – просто смотрел на волосы, вернее на «водопад волос». Смотрел, и что-то во мне восторженно просыпалось и пело. Я как раз был однажды Арамисом, когда пришлось «столкнуться» со своей любовью, как Д’Артаньян Дюма сталкивался с Миледи Винтер. То ли в продленке, то ли на большой перемене класс находился на улице, я, конечно же, не ходил, а «скакал на лошади», что подразумевало своеобразный бег с двумя руками перед собой, которые «держат лошадь за узду». Не помню, что именно происходило, но, рванув к Кате «на лошади», я в связи с чем-то сказал, что от Арамиса еще никто не убегал. Она скривилась и надменно ответила что-то вроде «ой, подумаешь, такой уже Арамис».
С Юлей все было гораздо серьезнее, она даже оставила некий след трагичности неразделенных чувств. Похоже, «любовь к ней» продлилась намного дольше. Помню, как взбирался на ограждение позади школы, на его угол, стоя ногами на разных секциях забора и задумчиво, грустно смотрел вдаль. Я, конечно, не рисковал разбиться насмерть, если бы упал, но что-то повредить вполне бы мог. Не помню уже, призван ли был этот «момент опасности» что-то символизировать (как и ноги на разных заборах), так или иначе, именно стоя на заборе я не просто грустил «из-за любви», глядя вдаль или же наблюдая с расстояния своих одноклассников, но словно заглядывал в будущее, где я должен был откуда-то вернуться, и «она бы увидела меня совершенно иначе», уже известным и бывалым человеком. Эти ощущения в какой-то мере описывала песня, которую мы потом разучивали на уроке музыки и пения, правда, уже в пятом классе:
А может быть я стану отважным капитаном,
Открою новый остров, объехав целый свет.
А может утром хмурым стартую с Байконура,
И высажусь на самой далекой из планет.
Вот тогда ты пожалеешь, Кулакова,
Что мне ранец свой носить не доверяла,
Что за партою одной ты сидела не со мной,
И так много о себе воображала!
Я не был особенно музыкален, и уж точно пение не было одним из моих любимых занятий, но два момента отчасти противоречат этому. Я точно помню, как зимой, вечерами, когда мы были вдвоем с мамой, и она вязала, я в полный голос напевал ей песни о Красной Армии – мне то ли подарили, то ли просто купили набор таких карточек с песнями и рисунками, наподобие открыток. В те времена доктрины СССР, когда все дети становились пионерами, это было вполне естественным – петь о героях Октябрьской революции. Я стеснялся, но мама не смотрела на меня, хотя и слушала внимательно, и я, держа карточку перед собой, в очередной раз наяривал:




