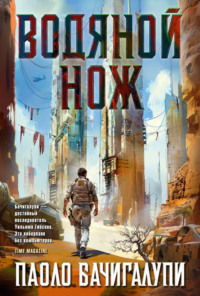Полная версия
Дети Морайбе
В таком случае появление нго, а заодно и пасленовых, почти объяснимо. Гиббонс, которого все коллеги называли эгоистом, любил прихвастнуть своим мастерством. Ему бы очень понравилось забавляться с материалами богатейшего семенного фонда. Целый биологический род взял и воскрес, а потом был приукрашен местным названием «нго». Во всяком случае, Андерсон считает, что фрукт местный. Хотя кто знает: вдруг это совершенно новое растение, родившееся из воображения Гиббонса, как Ева из ребра Адама.
Он рассеянно листает разложенные на полу бумаги. О нго ни слова. Все, что у него есть сейчас, – единственная встреча с красно-зеленым фруктом и само слово «нго». Андерсон даже не знает, традиционное это наименование или специально выдуманное. Старый, насквозь прокуренный опиумом Райли, к сожалению, ничем не помог: даже если и знал когда-то, как этот плод называется на ангритском[34], то давно забыл. А так просто угадать нужное слово нельзя. Исследовать образцы в Де-Мойне будут еще месяц, и совсем не факт, что найдут совпадение в своем каталоге: если гены фрукта модифицировали достаточно сильно, то сравнение ДНК ничего не даст.
Одно можно сказать наверняка: нго раньше не было. Год назад он не упоминался ни в одном из экообзоров, которые составляют переписчики. И вдруг этот фрукт просто взял да и возник – так, будто земля королевства решила возродить свое прошлое и выставить его на бангкокском рынке.
Андерсон открывает следующую книгу. С самого своего прибытия в Бангкок он собирал эту библиотеку, летопись Города божественных воплощений, тома, изданные еще до войн за калории, до эпидемий, до эпохи Свертывания; копался в разграбленных антикварных лавках и в завалах небоскребов времен Экспансии. Большая часть выпущенного тогда сгорела или сгнила во влажном тропическом климате, но ему удавалось находить оазисы знаний – семьи, где книги держали не на растопку. Теперь эти траченные плесенью источники информации рядами стоят на полках… и нагоняют тоску. Они напоминают о Йейтсе и его отчаянном желании поднять из могилы и воскресить прошлое.
– Только представь себе! – восторженно вопил он. – Новая Экспансия! Пружины следующего поколения, дирижабли, корабли, полные трюмы грузов, полные паруса ветра!..
У Йейтса были свои книги: пыльные фолианты, украденные из библиотек и с бизнес-факультетов по всей Северной Америке, – мудрость прошлого, забытая за ненужностью. Разграбления этих александрийских сокровищниц знания никто тогда даже не заметил – все считали, что глобальная торговля умерла.
Когда Андерсон только приехал, контора «Спринглайфа» была забита книгами, на столе у Йейтса в высоких кипах стояли «Практика глобального менеджмента», «Бизнес в межкультурной среде», «Менталитет Азии», «Маленькие тигры Азии», «Каналы поставки и логистика», «Популярная тайская культура», «Новая глобальная экономика», «Особенности валютных курсов в работе цепочки поставок», «Чего ждать от бизнеса по-тайски», «Международная конкуренция и ее регулирование» – история прежней Экспансии от а до я.
Однажды в приступе отчаяния Йейтс, ткнув пальцем в эти книги, сказал:
– Но все это еще можно вернуть! Можно!
И заплакал. Андерсон тогда впервые пожалел его, человека, посвятившего жизнь тому, что никогда не сбудется.
Он открывает следующую книгу и одну за одной внимательно рассматривает старые фотографии. Перцы чили – целые горы, разложенные перед камерой давным-давно умершего человека. Чили, баклажаны, томаты – снова это чудесное семейство пасленовых. Если бы не они, головной офис не отправил бы Андерсона в королевство, а у Йейтса все еще был бы шанс воплотить свои идеи.
Он достает из пачки свернутую вручную сигарету марки «Сингха», вытягивается на полу и глубоко, пробуя на вкус, вдыхает дым так же, как люди делали это с незапамятных времен. Поразительно, как, умирая от голода, тайцы все же нашли время и силы дать вторую жизнь своей никотиновой привычке.
«Человеческую натуру не изменить».
Солнце заливает Андерсона ослепительным светом. Вдали сквозь влажный, мутный от горящего навоза воздух едва проступают здания промзоны: ровный ритмичный рисунок, совсем не похожий на чехарду ржавых крыш старого города. За фабриками встает дамба: даже отсюда видны огромные шлюзы, по которым сухогрузы уходят в море.
Грядут перемены: вновь возникнет международная торговля, и товары опять будут пересекать планету из конца в конец. Пусть медленно, натыкаясь по пути на старые ошибки, но все станет как прежде. Йейтс обожал свои пружины, но еще больше его радовала мысль о воскрешении прошлого.
– Здесь ты не сотрудник «Агрогена», а очередной грязный предприимчивый фаранг, который приехал срубить денег, – такой же, как добытчики нефрита и матросы клиперов. Тут тебе не Индия, где можно налево и направо сверкать эмблемой из пшеничных колосьев и брать все, что понравилось. С тайцами такое не проходит: узнают, кто ты, – разделают твою тушку, упакуют в ящик и отправят по обратному адресу.
– Ты улетаешь следующим дирижаблем, – сказал тогда Андерсон. – И радуйся, что в головном офисе согласились взять тебя назад.
Но Йейтс не полетел. Он нажал на курок пружинного пистолета.
Андерсон раздраженно затягивается – вентилятор под потолком замер, и в комнате стало жарко. Рабочий, который каждый день в четыре утра должен заводить механизм, в этот раз, видимо, недодал пружинам джоулей.
Недовольно морщась, Андерсон встает и закрывает ставни. Здание новое и построено так, что прохладный приземный воздух свободно проходит через все этажи, но спокойно выносить прямые лучи раскаленного экваториального солнца Андерсон так и не привык.
Он снова начинает листать желтые страницы книг, потрепанных годами и влажным климатом: корешки треснули, бумага рассыпается под пальцами. Щурясь от дыма зажатой в зубах сигареты, Андерсон открывает очередной том и замирает.
Нго.
Целые развалы нго. Маленькие красные фрукты со странными зелеными усиками дразнят его с фотографии, где фаранг и фермер, которых уже давно нет в живых, спорят о цене. Мимо едут ярко раскрашенные бензиновые такси, а рядом аккуратной пирамидой лежат нго и всем своим видом насмехаются над Андерсоном.
За разглядыванием старинных фотографий он провел довольно много времени и уже почти привык спокойно взирать на тупую самоуверенность прошлого – на расточительность, высокомерие и бессмысленное, непомерное богатство, – но эта картинка выводит его из себя. Чего стоит один фаранг, заплывший жиром, этим умопомрачительным излишком калорий, но даже он блекнет на фоне чарующей пестроты рынка, где одних только фруктов выложено три десятка видов: знакомые мангостаны, ананасы, кокосы… а вот апельсинов больше нет. И этой, как ее, питахайи. И помело, и вон тех желтых штук – лимонов. Их нет. Они просто исчезли, как и много что еще.
Но люди на снимке этого не знают. Давно умершие мужчины и женщины понятия не имеют об открытой перед ними древней сокровищнице, не подозревают, что живут в раю, каким его расписывает грэммитская библия, – в месте, где чистые души восседают одесную Господа, где Ной и святой Франциск бережно хранят все ароматы и вкусы мира и никто не мучим голодом.
Андерсон внимательно разглядывает снимок. Толстые самодовольные идиоты не представляют, что стоят у золотой генетической жилы. При этом в книге никто даже не потрудился уточнить, что такое нго. Фотография – лишь очередной пример изобилия, которым люди бездумно наслаждались. Природа была к ним чертовски щедра.
У Андерсона на секунду возникает желание воскресить жирного фаранга и тайца-крестьянина, показать им, каково живется тут, в настоящем, наорать на них, а потом вышвырнуть с балкона так же, как они сами наверняка выкидывали фрукты, заметив хоть малейшую вмятинку.
Больше в книге нет ни иллюстраций, ни названий плодов. Он резко встает, снова выходит на балкон под палящее солнце и смотрит на город. Внизу призывно кричат торговцы водой, ревут мегадонты, по переулкам течет треск велосипедных звонков. К полудню Бангкок притихнет до самого заката.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Примечания
1
Перевод В. Егорова.
2
Сильвестр Грэм(1794–1851) – американский священник, который проповедовал вегетарианство и воздержание. Оказал влияние на развитие идей о полезном питании. Библия Грэма – авторский вымысел.
3
Себ Накхасатхиен(1949–1990) – защитник природы. После неудачной реализации проекта по спасению животных из зоны строительства одной из дамб в Таиланде в знак протеста покончил с собой. Позже последователи Накхасатхиена создали фонд его имени. Пхра (тайск.)– святой, священный.
4
Тханон-Сукхумвит– одна из центральных трасс Таиланда, проходящая по побережью и нескольким городам, в том числе по Бангкоку.
5
Ваи– универсальный тайский жест (поклон при сложенных на уровне груди ладонях), который может означать благодарность, приветствие и т. д. Глубина поклона зависит от статуса того, кому предназначено ваи. Когда приветствуют равных, пальцы касаются носа. Для людей выше статусом (учителей, родителей) необходимо тронуть пальцами переносицу на уровне бровей. Самый глубокий поклон, при котором пальцев касаются лбом, – только для высших особ: королей, духовных лидеров и т. д.
6
Крунг-Тхеп– название Бангкока, которое используют сами жители Таиланда.
7
Будай, или смеющийся Будда, – символ изобилия.
8
Клонг-Тои– трущобный район Бангкока. В нем также находятся портовые сооружения и большой рынок.
9
Тамади– китайское ругательство.
10
Тань сяншен– господин, учитель (кит.).
11
Ян гуйдзы (кит.) –дословно: иностранный (заморский) дьявол. Уничижительное название белых людей.
12
Гуанинь– китайское божество (как правило, в женском обличье), которое спасает людей от бедствий.
13
Баиджу– алкогольный напиток крепостью от 40 до 60 градусов на основе сорго.
14
Пхра Канет– тайское имя индуистского бога Ганеши.
15
Цзинь– ед. измер. веса, прибл. 0,6 кг.
16
Пикланг– тайский деревянный духовой инструмент наподобие гобоя.
17
Ко-Самет– небольшой остров у берегов Таиланда.
18
Гайдзин (яп.)– иностранец.
19
Сямисен– японский щипковый трехструнный музыкальный инструмент.
20
Чианграй– провинция на севере Таиланда.
21
Чатучак– район Бангкока, где находится крупнейший в Таиланде рынок.
22
Чао-Прайя– река в Бангкоке.
23
Кхао-Яй– национальный парк.
24
Понятиесанукозначает веселье, радость, комфорт – причем нематериального свойства. Для удовольствий физических есть отдельное понятие – сабай.
25
Сонгкран– тайский Новый год.
26
Камма– то же, что и карма, но на пали, литературном языке буддизма.
27
Дамма– то же, что и дхарма.
28
Хийя– грубое тайское ругательство.
29
Кхраб (тайск.)– почтение. Также кхраб – земной поклон, во время которого человек падает ниц.
30
Лумпини– один из самых известных бангкокских стадионов, на котором проводятся турниры по тайскому боксу.
31
Та-Прачан– крупнейший в Бангкоке рынок амулетов и талисманов.
32
Королевство Аютия(1351–1767) – в свое время одно из богатейших государств региона. Одноименная столица в XVIII веке была крупнейшим городом на земле. В 1767-м страну, ослабленную династическими распрями, практически без боя захватила бирманская армия. Сопротивление оказали только жители деревни Банг-Раджан.
33
Чеди– тайское название буддийских ступ, памятных сооружений для хранения реликвий или захоронений.
34
Ангритский– искаженное тайское название английского языка.