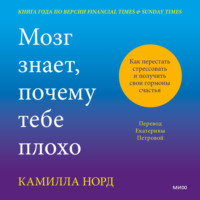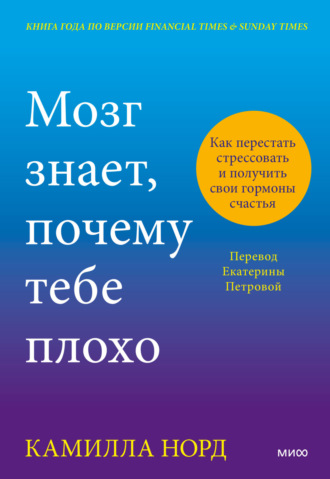
Полная версия
Мозг знает, почему тебе плохо. Как перестать стрессовать и получить свои гормоны счастья
У крыс стрессовую анальгезию тоже вызывают разные факторы. В первую очередь это болевое воздействие: выброс опиоидов после короткого, но болезненного удара током снижал болевую чувствительность[24]. Аналогичный эффект давало вращение на определенной скорости (не пытайтесь повторить эксперимент со своими домашними животными!)[25].
Стрессоры вроде холодной температуры и скайдайвинга отличаются кратковременностью и умеренностью[26]. Если вращать крысу слишком быстро (предположительно, это вызывает более неприятные ощущения, чем относительно медленное вращение), выброса опиоидов не происходит[27]. Понятно почему: краткосрочное блокирование боли необходимо, чтобы, например, убежать от хищника, если он вас уже поранил. Но если бы долговременный стресс тоже снижал болевую чувствительность, мы не избегали бы потенциально опасных ситуаций.
Боль – нужный и важный сигнал. Люди, неспособные испытывать боль из-за редких генетических особенностей, часто получают ожоги, ломают кости и прикусывают язык. Боль и стресс неприятны, но важны для выживания, а когда они уходят, мы получаем вознаграждение в виде удовольствия.
Вы уже догадались, как относится к психическому здоровью стрессовая анальгезия. Ваши предпочтения в удовольствиях и степень терпимости к боли задают основу для радости в повседневной жизни и для душевного здоровья в целом. Наиболее ярко различия между людьми проявляются в их реакции на неприятные, болезненные ситуации. Длительные, хронические боли разрушительно воздействуют на психическое здоровье.
Бремя хронической болиЕсли боль длится долго, стрессовая анальгезия не возникает – наоборот, мозг и нервная система становятся все более и более чувствительными. Это называется гиперальгезия – противоположность анальгезии как отсутствию боли[28]. Гиперальгезия обычно развивается после травмы вследствие локальных изменений в поврежденных тканях. Эти повреждения гиперчувствительны к прикосновениям или даже движению для того, чтобы вы случайно не задели больное место и не тревожили его до заживления. В краткосрочной перспективе гиперальгезия очень полезна. Но если она сохраняется и после заживления, то переходит в хроническую форму. Все уже зажило, но все равно болит. Считается, что причина – в изменениях участков мозга, связанных с осознанием, вниманием и эмоциями[29]. Эти участки посылают сигналы через головной и спинной мозг, и мы ощущаем боль, хотя уже здоровы. Например, сломанная кость срослась, но мозг сообщает нам, что она болит.
Люди с хроническими болями находятся в группе риска психических расстройств. В крупном исследовании Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) было установлено, что при хронических болях, длящихся дольше полугода, у людей развиваются тревожные и депрессивные расстройства. Я вижу этому такое объяснение (и это первое, что приходит в голову, и самое очевидное): боль тяжело терпеть, она снижает качество жизни, и вполне естественно, что от этого страдает психика. Я придерживаюсь этой версии. После несчастного случая 16 лет назад у меня развился остеоартрит сустава стопы, и часто бывают боли. Тогда приходится подчиняться капризам тела: боль такая сильная, что все остальное по сравнению с ней второстепенно. От нее никуда не деться, она сводит с ума.
Что интересно, причина и следствие могут меняться местами. Известно, что от хронических болей бывает депрессия и что на фоне депрессии часто развиваются хронические боли. Эта взаимосвязь прослеживается во всех странах и культурах[30], [31]. Как это объяснить?
Вероятно, дело в том, что хроническая боль чаще встречается у людей с депрессией, если восприимчивость к ней также обусловливает и восприимчивость к хронической боли и/или если текущая депрессия меняет способ реакции мозга на боль. В пользу и того и другого есть данные исследований.
Биологические механизмы хронической боли действительно во многом схожи с депрессивными. Показательно, что области мозга, активные при депрессии и тревожности (а также многих других расстройствах)[32], частично совпадают с областями, задействованными при хронической боли. Многие связанные с ней физические процессы относятся к психическим расстройствам[33]. Этот факт многое говорит о хронической боли. Как пациент я замечала, как старательно врачи подчеркивают, что хроническая боль не только «в голове», она реальна. Но как ученый я не могу полностью с этим согласиться.
Нейробиологические исследования хронической боли продемонстрировали, что у нее больше общего с психическим расстройством, чем с кратковременной болью. При травме активируются болевые рецепторы, которые называются ноцицепторами. Именно они транслируют по нервам информацию о повреждении тканей в спинной мозг. Оттуда она передается в головной мозг. Данные поступают, так сказать, снизу вверх. Со временем может обостриться или притупиться чувствительность болевых рецепторов, а вместе с ними и боль[34]. Когда сигнал ноцицепторов достигает головного мозга, ощущаемый объем боли уже не прямо отражает масштаб травмы.
К физическим ощущениям присоединилось знание о том, что произошло что-то трагическое, требующее неотложного внимания, и оно усугубляет телесные страдания. Таким образом, хроническая боль может быть следствием как болевых ощущений, так и совершенно других процессов, происходящих в мозге.
Все это очень сложно понять в тот момент, когда вы испытываете боль. Вы знаете, что болит, и почему, и что снимает боль, поэтому кажется невозможным, чтобы у нее был какой-то другой источник. Но на боль, в числе прочего, влияют голод, возбуждение, стресс, отвлекающие факторы, прошлый опыт и генетика[35]. Ощущаемая боль начинается с подсознательных процессов в голове. Иногда они настолько мощные, что не нуждаются в сигналах ноцицепторов, чтобы послать информацию в сенсорные системы.
Мозг может преувеличивать интенсивность хронической боли[36], например если она ощущается как угроза[37]. Связанные в памяти с болью ощущения могут вызвать ее сами по себе, даже если на самом деле вам не больно[38]. Хроническая боль может целиком зависеть от мозга при отсутствии каких бы то ни было сигналов от ноцицепторов – это тот самый случай, когда она действительно только «в голове».
Но есть и хорошие новости. Если боль поддерживается процессами, схожими с психическими расстройствами, значит, болеутоляющие средства могут не понадобиться: попробуйте избавиться от нее, изменив к ней отношение.
У меня это получилось случайно, уже довольно давно, когда хирург-ортопед направил меня на противовоспалительный укол, чтобы отложить операцию (если бы он не подействовал, пришлось бы менять сустав). Судя по снимкам МРТ, у меня был тяжелый случай остеоартрита, а гормональные препараты эффективно снимают воспаление. Мне повезло: укол помог.
Повезло мне даже сверх всяких ожиданий, потому что действие препарата должно было закончиться через шесть месяцев. Но с тех пор прошло восемь лет, и за это время я ни разу не испытала такой ужасной боли, как до инъекции. Конечно, нога временами болит, но не так сильно, и мне не пришлось делать операцию. Не знаю, что думает об этом врач, но у меня есть своя гипотеза. Гормональный препарат временно облегчил боль от воспаления, информация о которой поступала «снизу вверх». Пролонгированный эффект я объясняю изменениями в мозге – это он добавлял львиную долю боли к той небольшой ее части, которую причиняла нога. За годы я привыкла испытывать боль, следить за ней, ждать ее и постепенно начала ее преувеличивать.
Я не буду долго распространяться про свой опыт, потому что это частный случай, а не данные эксперимента. Мой способ не всем подойдет, к тому же не исключено, что мне все-таки придется делать операцию, потому что лекарства (несмотря на такой замечательный эффект) не остановят разрушение хряща. Тем не менее мой пример доказывает, что даже при такой явной и объективной причине для боли ее степень в значительной мере зависит от мозга. Вот почему вместо ожидаемого краткосрочного действия получился подобный эффект. Человек может испытывать сильную боль без видимых на то причин.
Мозг может продуцировать или усугублять боль, если вы ее ждете, боитесь и видите опасность там, где ее нет. Но бывает, что мозг приуменьшает боль, например при эффекте плацебо (у него плохая репутация, но незаслуженно, как вы узнаете в главе 5).
Причина хронической боли может на 100 % находиться «в голове», даже если так не кажется. Некоторые ученые утверждают, что боль всегда «в голове», потому что мы вообще не можем ее ощущать без участия мозга. Проблема в том, что такую боль считают надуманной. Но даже если боль и депрессия «в голове», это не делает их менее реальными. Они так же обусловлены физическими причинами, как травма или инфекция.
Каков механизм удовольствия?Я уже писала, что удовольствие можно получить от стресса и скайдайвинга. Но, думаю, вам известны другие, более традиционные способы. Не стоит причинять себе боль, только чтобы испытать потом приятные ощущения. К счастью, выброс опиоидов и других химических веществ бывает не только при стрессе или от боли, но и от удовольствий в привычном смысле слова – от еды, секса, тренировок, общения и смеха.
Как и стрессовая анальгезия, вызываемая изменениями химического обмена мозга в результате поступления сигналов, приятные вещи тоже уменьшают боль. Например, крысы после совокупления (в равной степени самцы и самки) ощущают эффект анальгезии[39]. И люди тоже, по некоторым данным. По результатам опросов, секс облегчает боли при мигрени – об этом заявили 60 % респондентов. Здесь стоит отметить, что это не касается кластерных болей – они могут усугубиться[40].
Поэтому, если вы не знаете причин боли у себя, рисковать не стоит.
Каков механизм удовольствия и почему оно снижает боль? Можно по-разному искать ответы на этот вопрос: наблюдать за людьми и животными или симулировать процесс на компьютере. Можно просто смотреть или вмешиваться и что-то менять. Самое сложное – понять, какая часть мозга генерирует удовольствие, а не просто участвует в процессе его получения. Как это сделать?
В первую очередь хорошо бы определиться с тем, как оценивать деятельность мозга. По идее, надо вскрыть череп и измерять электрические заряды клеток мозга крошечными электродами. Но проводить подобные эксперименты с людьми неэтично, поэтому придется измерять активность мозга крыс, пока они занимаются чем-нибудь приятным или не очень.
Тут встает еще одна проблема. Как понять, приятно крысе или нет? Можно было бы оценивать, насколько она готова ради этого стараться: нажимать на кнопку, бегать за вознаграждением и т. д. Но, как мы увидим в главе 4, крысы (и люди) могут вкладывать усилия в то, что не приносит удовольствия. Как же убедиться, что животному что-то нравится? Можно, например, анализировать мимику. Еще в эпоху Дарвина ученые писали про выражение удовольствия на мордах приматов и крыс и на человеческих лицах[41], [42]. У крыс выражение удовольствия появлялось, если капнуть им на язык сладкую воду (у детей была такая же реакция): они начинали часто облизывать себе рот. Измерить удовольствие научно можно, подсчитав, сколько раз крыса облизалась, и определив, какие участки мозга при этом активируются – и вуаля, вы нашли нейробиологическую основу удовольствия у крыс.
Но не все так просто с этим методом. Что, если крысы облизываются не только от удовольствия? Или не всякое удовольствие проявляется в облизывании губ, а только пищевое? Загвоздка в том, что мы не можем спросить крысу, вкусно ли ей. Такой эксперимент мог бы привести к «ошибке умственного вывода», как выразилась нейроученый Лиза Фельдман Барретт. Это значит, что, поскольку животное не может ничего нам сказать, мы проецируем собственный опыт (удовольствие) на наблюдаемый критерий (облизывание), что является чистым умствованием.
Как вы поняли, эксперимент нельзя считать состоявшимся, пока не будет известно доподлинно, что чувствует животное. Нам нужно понимать, радуется оно, грустит, злится или получает удовольствие. Это не составляет труда, если подопытное животное – человек. Его можно спросить и рассчитывать, что он ответит правду (с тех пор, как я так делаю, моя жизнь стала гораздо проще).
Но, взявшись оценивать удовольствие у человека, вы вскоре столкнетесь с новыми трудностями. Измерять активность мозговых клеток сложнее, чем при экспериментах с животными (за исключением особых случаев, например записи нейронной активности во время операции на мозге). Вместо этого мы используем разные способы визуализации и в прямой трансляции измеряем электрическую активность мозга.
В ранних экспериментах с визуализацией применялась позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ). В числе прочего она позволяет измерить метаболическую активность мозга, которая приблизительно соответствует нейронной. Участникам исследования вводят препарат, меченный радиоактивным изотопом, и тогда в зонах его высокой метаболической активности в мозге (или в теле) отмечается его накопление, которое может быть записано и реконструировано как изображение. По нему можно приблизительно определить место активности нейронов.
Сейчас также используется технология функциональной магнитно-резонансной томографии (фМРТ). Она позволяет точнее локализовать активность мозга. Вы наверняка видели снимки фМРТ в новостях: на них мозг как будто раскрашен цветными кляксами. Если в новостях (или в этой книге) написано, что определенные области мозга участвуют в некой функции, значит, этот вывод сделали на основании усредненных результатов нескольких измерений у одного человека (пока он лежал в томографе, например разглядывая разные картинки) и еще раз усредненных для большого количества людей (ради статистической достоверности).
Для измерения нейронной активности отслеживают, как насыщенная кислородом кровь проходит через мозг. У снимков фМРТ более высокое разрешение, чем у ПЭТ, – на них можно разглядеть участки размером в один кубический миллиметр. Но насыщенность крови кислородом медленно растет и снижается, этот процесс измеряется секундами, а нейроны вспыхивают во много раз быстрее. Поэтому фМРТ не поспевает за реальной активностью мозга и оценивает ее во времени и пространстве.
Эти технические ограничения, свойственные и другим видам исследований, требуют тесного сотрудничества нейроученых с физиками, которые умеют регулировать и оптимизировать магнитное поле, генерируемое фМРТ, чтобы получить наилучший результат. Но даже если преодолеть эти сложности, у фМРТ остаются другие непреодолимые ограничения: невозможно измерять биохимическую и электрическую активность мозга напрямую, а разрешения для идентификации сигнала от каждой клетки недостаточно. В одном кубическом миллиметре – а для фМРТ это немалое разрешение – содержится около миллиона нейронов. Таким образом, у нас в распоряжении есть конвергентные доказательства, то есть эксперименты с людьми подтверждают данные опытов с животными.
Это возвращает нас к первым попыткам найти источник удовольствия в мозге. Чтобы получить конвергентное доказательство, нужны два эксперимента: в одном точно измеряется активность нейронов у крыс во время предполагаемого удовольствия, а в другом – примерно измеряется активность нейронов у людей, когда они несомненно получают удовольствие.
Теперь надо решить, как доставить удовольствие добровольцам. Можно предложить им шот с шоколадным коктейлем, предварительно убедившись, что все любят шоколад (из шотов модно пить алкоголь на вечеринках, но это неподходящие условия для научного исследования). Вливание прямо в рот как нельзя лучше подходит для экспериментов с МРТ, поскольку участникам не придется жевать или двигаться. Для получения четкого изображения нужна неподвижность (если человек будет кусать пончик, картинка будет размытой).
Определив, что считать удовольствием, теперь можно смотреть, что в это время происходит у добровольцев в голове. Отправляя их по одному в томограф, вы анализируете снимки (это занимает целую вечность и происходит после исследования, хотя в процессе на мониторе уже все видно). Ага! Похоже, при дегустации молочного коктейля у всех активируются одни и те же области. Вероятно, это и есть центры удовольствия.
За кружкой пива вы рассказываете своему другу-ученому про свое открытие. Он как раз проводит исследования с группой людей, перенесших инсульт, и у них – какое совпадение! – повреждены те же области мозга. Вы просите друга повторить с его добровольцами ваш эксперимент, и оказывается, что их центры удовольствия прекрасно работают. То, что вы наблюдали во время дегустации шоколадного коктейля, не генерация удовольствия, поэтому повреждение этих областей не мешает его испытывать.
Проблема в классической статистической ошибке. Любители статистики торжествующе кричат всякий раз, когда ее обнаруживают: «“После” не значит “вследствие”!» (Не очень-то вежливо, но, вероятно, им не так важны социальные нормы.) Вот что это значит: если две вещи происходят последовательно, между ними не обязательно существует причинно-следственная связь. Запомните: если где-то написано, что некая область мозга или его биохимический элемент отвечают за определенное поведение, не факт, что так и есть, если только в эксперименте не стимулировали эту область, например, какими-то препаратами, чтобы получить искомый результат.
Всегда стоит рассматривать ряд исследований – с животными (с ними проще пронаблюдать причинно-следственную связь) и с людьми (их можно спросить, что они чувствуют). Тогда появляется уверенность, что именно эта область мозга или его химический элемент вызывают удовольствие, боль и другие переживания. Конечно, эта проблема есть не только при томографии. В книге будет еще много примеров явной корреляции у людей или убедительной причинно-следственной связи у животных (или того и другого, как в случае кишечного микробиома), не применимых в контексте психического здоровья человека.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Сноски
1
Bylsma, L. M., Taylor-Clift, A. & Rottenberg, J. Emotional reactivity to daily events in major and minor depression. Journal of Abnormal Psychology 120, 155 (2011).
2
Bentham, J. Deontology Or the Science of Morality in which the Harmony and Coincidence of Duty and Self-interest, Virtue and Felicity, Prudence and Benevolence are Explained and Exemplified. Vol. 2 (Longman, 1834).
3
Kahneman, D. & Tversky, A. Experienced utility and objective happiness: A moment-based approach. The Psychology of Economic Decisions 1, 187–208 (2003).
4
Jebb, A. T., Tay, L., Diener, E. & Oishi, S. Happiness, income satiation and turning points around the world. Nature Human Behaviour 2, 33–38 (2018).
5
Berridge, K. C. & Kringelbach, M. L. Building a neuroscience of pleasure and well-being. Psychology of Well-Being: Theory, Research and Practice 1, 1–26 (2011).
6
Disabato, D. J., Goodman, F. R., Kashdan, T. B., Short, J. L. & Jarden, A. Different types of well-being? A cross-cultural examination of hedonic and eudaimonic well-being. Psychological Assessment 28, 471 (2016).
7
Trautmann, S., Rehm, J. & Wittchen, H. The economic costs of mental disorders: Do our societies react appropriately to the burden of mental disorders? EMBO reports 17, 1245–1249 (2016).
8
Arsenault-Lapierre, G., Kim, C. & Turecki, G. Psychiatric diagnoses in 3275 suicides: a meta-analysis. BMC Psychiatry 4, 1–11 (2004).
9
World Health Organization. Suicide. URL: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/suicide (2021).
10
Newcomer, J. W. & Hennekens, C. H. Severe mental illness and risk of cardiovascular disease. JAMA 298, 1794–1796 (2007).
11
Steptoe, A., Deaton, A. & Stone, A. A. Subjective wellbeing, health, and ageing. The Lancet 385, 640–648 (2015).
12
Diener, E. & Tay, L. A scientific review of the remarkable benefits of happiness for successful and healthy living. Happiness: Transforming the Development Landscape 90–117 (2017).
13
Kiecolt-Glaser, J. K., McGuire, L., Robles, T. F. & Glaser, R. Emotions, morbidity, and mortality: New perspectives from psychoneuroimmunology. Annual Review of Psychology 53, 83–107 (2002).
14
Kim, E. S., Sun, J. K., Park, N. & Peterson, C. Purpose in life and reduced incidence of stroke in older adults: “The Health and Retirement Study”. Journal of Psychosomatic Research 74, 427–432 (2013).
15
Davidson, K. W., Mostofsky, E. & Whang, W. Don’t worry, be happy: positive affect and reduced 10-year incident coronary heart disease: the Canadian Nova Scotia Health Survey. European Heart Journal 31, 1065–1070 (2010).
16
Cohen, S., Doyle, W. J., Turner, R. B., Alper, C. M. & Skoner, D. P. Emotional style and susceptibility to the common cold. Psychosomatic Medicine 65, 652–657 (2003).
17
Hermesdorf, M. et al. Pain sensitivity in patients with major depression: differential effect of pain sensitivity measures, somatic cofactors, and disease characteristics. The Journal of Pain 17, 606–616 (2016).
18
Hooten, W. M. Chronic pain and mental health disorders: shared neural mechanisms, epidemiology, and treatment. Mayo Clinic Proceedings 91, 955–970 (2016).
19
Butler, R. K. & Finn, D. P. Stress-induced analgesia. Progress in Neurobiology 88, 184–202 (2009).
20
Terman, G. W., Morgan, M. J. & Liebeskind, J. C. Opioid and non-opioid stress analgesia from cold water swim: importance of stress severity. Brain Research 372, 167–171 (1986).
21
Bagley, E. E. & Ingram, S. L. Endogenous opioid peptides in the descending pain modulatory circuit. Neuropharmacology 173, 108131 (2020).
22
Killian, P., Holmes, B. B., Takemori, A. E., Portoghese, P. S. & Fujimoto, J. M. Cold water swim stress- and delta-2 opioid-induced analgesia are modulated by spinal gamma-aminobutyric acidA receptors. Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics 274, 730–734 (1995).
23
Janssen, S. A. & Arntz, A. Real-life stress and opioid-mediated analgesia in novice parachute jumpers. Journal of Psychophysiology 15, 106 (2001).
24
Terman, G. W., Morgan, M. J. & Liebeskind, J. C. Opioid and non-Opioid stress analgesia from cold water swim: importance of stress severity.
25
Terman, G. W., Morgan, M. J. & Liebeskind, J. C. Opioid and non-Opioid stress analgesia from cold water swim: importance of stress severity.
26
Иногда анальгезия возникает и после длительного стресса (например, после долгого пребывания в холодной воде), но она вызывается не опиоидной системой, а одной из других биохимических систем мозга, участвующих в подавлении боли.
27
Terman, G. W., Morgan, M. J. & Liebeskind, J. C. Opioid and non-Opioid stress analgesia from cold water swim: importance of stress severity.
28
Rivat, C. et al. Non-nociceptive environmental stress induces hyperalgesia, not analgesia, in pain and opioid-experienced rats. Neuropsychopharmacology 32, 2217–2228 (2007).
29
Maihofner, C., Forster, C., Birklein, F., Neundorfer, B. & Handwerker, H. O. Brain processing during mechanical hyperalgesia in complex regional pain syndrome: a functional MRI study. Pain 114, 93–103 (2005).
30
Gureje, O., Simon, G. E. & Von Korff, M. A cross-national study of the course of persistent pain in primary care. Pain 92, 195–200 (2001).
31
Currie, S. R. & Wang, J. More data on major depression as an antecedent risk factor for first onset of chronic back pain. Psychological medicine 35, 1275 (2005).
32
Brandl, F. et al. Common and specific large-scale brain changes in major depressive disorder, anxiety disorders, and chronic pain: a transdiagnostic multimodal meta-analysis of structural and functional MRI studies. Neuropsychopharmacology 47, 1–10 (2022).