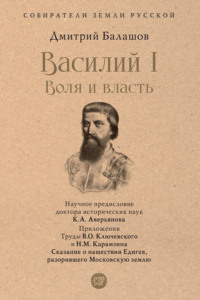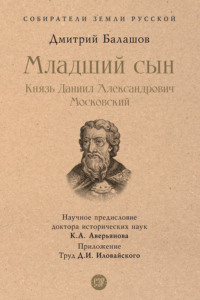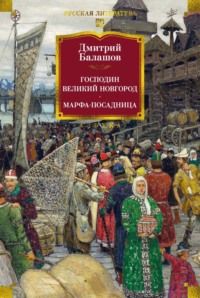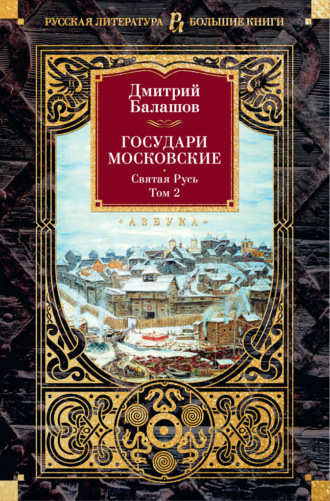
Полная версия
Государи Московские. Святая Русь. Том 2
– Поскачешь в Новгород! Яви Совету предложенья великого князя! Да помыслят! – Помолчав, добавил, незаметно сжимая плечо Клементия: – Зайди за грамотою!
В тесном покое временных посольских хором, глазами удалив служек, высказал вполголоса, но твердо:
– Скачи опрометью! Надобно опередить московита! Пусть ся готовят к приступу! Вот тебе мой перстень с именною печатью: бояре поймут! – И, не давая тому раскрыть рта, быстро благословляя, повторил повелительно: – Скачи!
Клементий прибыл вовремя. Город, доселе надеявшийся откупиться от великого князя серебром, разом проснулся. Близкая беда вразумила наконец маловеров и слабодушных. Спешно укрепляли возводимый из рубленых гордень острог, обливали водою вал, лихорадочно оборужались. Оба кормленых князя, Патрикий Наримонтович и Роман Юрьич, с дружинами копорских князей и с городовым ополчением к ночи выступили к Жилотугу.
И когда передовые разъезды москвичей, посланные Владимиром Андреичем, запоказывались под Ковалевом, город уже был готов к обороне и приступу. Владимир Андреич сам, недовольно хмурясь, озирал далекий, чуть видный отселева город. Тускло посвечивали искорками среди серо-синей мглы купола соборов. Там и тут подымался к небу густой дым.
– Кто повелел?! – рыкнул, разъярясь было, серпуховский князь, досадуя на глупую резвость московских воевод.
– Сами запалили! – отвечал подскакавший молодший. – Пригородные монастыри жгут! Не было где нашим остановить!
День изгибал. В сумерках, там и тут, вспыхивало, виднее становило веселое яростное пламя. Владимир Андреич, сердито перемолчав, заворотил коня, поскакал к двоюродному брату с докладом.
Дмитрий уже по шагам в сенцах узнал воеводу. Владимир Андреич вошел, крупный, заматеревший, с решительным, обожженным морозом и ветром лицом, на ходу отрывая и обрасывая ледяные сосульки с усов и бороды. Не блюдя старшинства, свалился на лавку. Вдруг, непутем, подумалось: «А что, ежели…?» – Дмитрию было втруд встать на ноги, и он неволею завидовал здоровью брата. И опять с надсадною болью вспомнился сын, Василий, безвестно погинувший в Орде. Не для его ли спасения он добивается ныне восьми тысяч отступного с Великого Новгорода! А ежели Василия уже нет в живых? Федька Свибл прочит в наследники Юрия… Впервые, кажется, подумалось подозрительно о Свибле. Что смерть грядет и он смертен, как и прочие, Дмитрий знал слишком хорошо… Не то долило! Судьба княжества, устроение, ради которого положил без отстатка жизнь свою покойный батька Олексей, устроение, которое мог разрушить, и легко разрушить, любой, и Федька Свибл, и даже вот он, Владимир, что сейчас жадно пьет квас из кленовой резной братины и, откидываясь, отдуваясь, утирая горстью мокрые бороду и усы, выговаривает наконец:
– Новогородцы ти посады жгут! И монастыри жгут округ города!
И не сразу, отвлеченный своими мыслями, соображает Дмитрий, что к чему… Дак, стало, город приходит брать осадою и приступом ратей? Ввергать меч с неясным при такой нуже исходом? Чуть не спросил (удержался, не спросил!): «Мыслишь, мол, что не разобьют нашу рать тута, аки Олег Иваныч под Рязанью?» Оскорблять брата не стоило. Сдержал вопрос, сдержал и невольный упрек…
Братья тяжело молчали, едва ли не впервой думая каждый о своем и поврозь. Начали входить, зарассаживались воеводы. Уже все ведали, что Новгород приготовился к приступу и выставил рать у копаницы, за валами Славенского конца.
Владимир, сердито глядя вбок, мимо Дмитрия, первым высказал, что ежели до того дошло, то брать город приступом не стоит: ратных загубим, и княжчин не возьмем!
Бояре и воеводы глядели хмуро, и дружного отпора Владимиру Андреичу, на что в глубине души надеялся Дмитрий, не последовало. Дмитрий опять начал тяжело сопеть, что у него означало глухую обиду, но иногда и невольное согласие с мнением большинства. Порешили к городу не приступать, а сожидать нового новогородского посольства. Не тот уже был город, что при Андрее Боголюбском, не те и низовцы! На то только и надея была.
В ночь новгородцы оттянули свои рати в город. Ждали владыку. Уже в полной тьме возок Алексея протарахтел по бревенчатой мостовой Славенского конца, направляясь к торгу и Великому мосту через Волхов.
– Едет! Придет нам в осаду сести! Всема! Всем городом! – Вести обгоняли владычный возок.
На боярском совете владыка настоял, чтобы не уступать великому князю. Скликали рати из пригородов, ковали оружие. Посад глухо роптал.
На третий день по Крещении в городе начался пополох: мол, сам великий князь со своей силою стоит у Жилотуга! Вооруженные городские смерды заполнили вечевую площадь, прихлынули к воротам. Впрочем, посланные в дозор конные отряды москвичей за Жилотугом не обнаружили. Невзирая на то и пользуясь самостийным вечевым сходом, новогородцы избрали новое посольство к великому князю: архимандрита да с ним семь попов и по пяти житьих от конца. Убытки и так превысили все мыслимые уступки: только великих монастырей под городом было сожжено двадцать четыре, за Плотницким концом, за валом, пожгли все хоромы выходящих за валы улиц, да грабежи по волости, да погибший купеческий товар в рядках, да полон, да грабежи, начавшиеся в самом городе…
Архиепископ Алексей, не соглашавшийся на уступки, не мог, однако, передать горожанам своей твердости, да и сами вятшие начали сомневаться и роптать.
Новое посольство соглашалось почти на все. К прежним осьми тыщам давали черный бор и княжчины, соглашались принять княжеского наместника на Городец, просили лишь оставить им кормленого литовского князя, на что Дмитрий, поворчав и погадав с боярами, согласился наконец. Большой войны с Новгородом начинать в самом деле не стоило…
Три тысячи, взятые с палатей Святой Софии, новогородцы доставили великому князю немедленно. А пять тысяч положили на заволочан, поскольку те тоже участвовали в походе на Волгу, и тотчас послали выборных – брать то серебро с Заволочья. Сколько здесь было справедливости, а сколько лукавства – выехать за счет окраин, свалив свои шкоды на двинян, – судить не будем.
Получивши часть окупа, удоволенный Дмитрий, так и не побывав в Новгороде, от Ямен повернул рати назад.
Лежал в возке, укрытый курчавым ордынским тулупом, морщась на всех выбоинах пути и с горем понимая, что самому ничего этого не надобно. Нужна Овдотья, к четвертому десятку лет вошедшая в полную женскую силу, нужна теплая, хорошо вытопленная горница, нужно получить хоть какую весточку от сына Василия, – жив ли хотя? А это все – и серебро, и укрощенный Новгород, и упорно собираемые под руку мелкие князья и княжества, Белоозеро, Галицкие и Ростовские волости, и трудный мир с Олегом, и нынешнее одоление новогородцев, и даже предстоящий брак Сонюшки с Федором Ольговичем. (И к добру! Не в Литву поганую, а на Рязань, рядом! Станет хоть повидать дочерь когда!) Все это надобно было уже не ему – княжеству, земле! Тем, еще не рожденным русичам, которые придут вослед, когда его, Дмитрия, как и его верной Дунюшки, уже не будет в живых. Сейчас, как никогда, чуял он величие веры над бренностью жизни человеческой и, вспоминая своего покойного наставника, «батьку Олексея», тихо плакал, шепча слова покаянного псалма…
Глава восьмая
От красного кисловатого местного вина кружилась голова. Василий качнулся, отстоявшись в сенях. Почему надобно ехать отсюдова в Буду, а не к себе на родину? Потому только, что воевода Петр ходит под венгерским крулем? Да и круль ихний, Людовик, померши! Там, слышно, вдова еговая сидит на престоле! Чепуха какая-то, бестолочь… Однако где тут? Он двинулся по темному переходу сеней, толкнулся в одну дверь, в другую… Вдруг услышал свою, русскую речь и не понял даже спервоначалу, кто говорит, а задело, что говорили о нем – и так, как никогда не говорилось ему в лицо.
– А не убережем Василия? – спрашивал один из собеседников. – Пропадет Москва?
– Почто! – спокойно отвечал другой голос (и теперь узнал враз и того, и другого, первого). – Будет Юрий заместо ево!
– И Акинфичи в новую силу взойдут! – с воздыханием заключил первый голос, путевого боярина Никанора.
И уже что там отвечал ему стремянный Данилы Феофаныча, Василий не слыхал. В мозгу полыхнуло пожаром: Акинфичи! Не пото ли Свибл и медлил его вызволять из Орды? Чужая душа потемки, и открещивался, бывало, когда намекали ему, а… не ждал ли Свибл батюшкиной кончины, дабы Юрко вместо него на престол посадить?! Вспыхнуло и словно ожгло. Он пьяно прошел, распахнув, расшваркнув наружные двери. Заворотя за угол и досадливо оглядясь, нет ли каких баб поблизку, помочился, стоя у обмазанной глиной стены… Заправляя порты, столкнулся с выбежавшей следом прислужницей, залопотавшей что-то по-местному, отмахнул рукой – не надо, мол!
В голове шумело, и неверно качалась земля. В Буду! И отец еще ничегошеньки не знает о нем! (И он не знал ничего из того, что творилось дома. И про подготовку к походу на Новгород будущею зимой, и про сам поход уведал уже в Литве, ровно год спустя. И что сидеть ему здесь придет еще почти два лета и даже вытвердить польскую речь, о том тоже не ведал, не гадал княжич Василий.) Уберегут ли? Зачем в Угорскую землю везут? – вот о чем пьяно думалось ему теперь, когда он стоял во дворе, раскачиваясь и ощущая на лице ласковый, почти теплый ветер, какого, кажется, никогда и не бывает на Руси в середине зимы! За ним-таки пришли, повели его вновь и под руки к пиршественному столу, заложником чужих чьих-то, и Бог весть, добрых ли, интересов! Вдруг, мгновением, захотелось заплакать. Ну зачем, зачем он бежал из Орды! Чтобы ехать через горы в чужую непонятную Венгрию, в Буду ихнюю, когда ему надобно совсем в другую сторону, домой!
Вечером (голова кружилась ужасно, и поташнивало) он лежал, утонув в перинах, и словно плыл по воздуху, отделяясь от тела своего. Лежал, летел ли, глядя, как Данило Феофаныч снимает верхние порты, кряхтит (тоже перебрал за гостевым столом) и в исподнем молится.
– Спишь? – вопрошает боярин.
– Нет еще… – тихо отвечает Василий.
– Помолился на ночь? – строго спрашивает старик.
– Помолился, дедо!
«Дедо» само как-то выговаривалось у него. Сказал и замер, но старик никак не удивил обращению, и это ободрило:
– Дедо! А почто везут-то в Угорскую землю?
– Не волен он в себе покудова, Петр-то, не осильнел! Его воеводству-то без году неделя: второй он тут альбо третий. И мать, слышно, римской веры.
– Это та старуха строгая?
– Она. Мушата. При седатом сыне все ищо правит… Вера тут у их наша, православная. Митрополию никак Филофей Коккин создавал. Ето во времена дедушки было.
– Владыки Алексия?
– Его. Друзья были с Филофеем! Ну так вот, а теперь прикинь: с юга турки, вера у их Мехметова. Болгар-то уже сокрушили, почитай. Сербы устоят ли, нет – невесть! Храбры, ратиться умеют, да князя ихнего теперешнего, Лазаря, не вси володетели слушают! А с Востока – татары, там – Литва, да и те же угры. Тут к кому ни то, а прислониться нать! И наехал княжич убеглый из Русской земли. Как быть? Не рассорить бы с Ордой! Хочет с себя свалить, пущай, мол, иные решают! Почто в Угорскую землю везут – не ведаю! Круль ихний, Людовик, померши. А так-то рещи: у батюшки твово полного мира с Ягайлою нет, дак, может, потому… Али католики што надумали? Чаю, и свадьбу эту ихню затеяли, чтобы католикам церкву православную под себя забрать! Ядвига-то, бают, иного любит, и жених есь у нее молоденький, да вишь… А Литву ноне в латынскую веру будут беспременно крестить!
– И русичей?
– Мыслят, вестимо, и русичей… – подумав, отзывается Данило. – Наша-то вера правее римской! Там папы да антипапы, вишь, роскошества разные, соблазн! Яко короли, воюют межи собою…
– А скажи! – подает голос Василий снова (старик уже лег, слышно, как скрипит под ним деревянное ложе, уже потушил свечу, и горница освещена одним крохотным лампадным сиянием). – Ведь батюшка хотел за Ягайлу нашу Соню выдать! Как же теперь?
– Да так! – отзывается Данило Феофаныч. – Никак… Иного жениха найдут, може, и из близких краев. На чужбину ить – как в могилу… Иной свет, и все иное там! Рыцари, да танцы, да шуты-скоморохи… Станут глядеть, судить, кому не так поклон воздала, кому не так руку подала… да и веру менять – ето не дело! Спи, княжич! Дорога дальня у нас!
И затихает все. И в тишине слышно, как течет время.
– Дедо, не спишь? – опять прошает Василий.
– Что тебе, сынок? – уже сонно, не вдруг отвечает боярин.
– А я им зачем?
Тьма молчит. Наконец отзывается голосом Данилы:
– Не ведаю и того. Ты ведь наследник престола! Все они ноне разодравши тут… Был бы жив Любарт Гедиминич, сговорили бы с им… А – померши! Были люди! Великие были короли! Што в Литве, хошь и Ольгерд, нам-то ево добрым словом не помянуть, а для своих великий был князь, глава! Вишь, сколько земель под себя забрал, и держал, и боронил, и с братьей своею в одно жили! И в Польше был король истинный. Казимир Великий! Польшу укрепил, иное и примыслил, грады строил, законы и порядок дал земле! Худо сказать, Червонную Русь завоевал, дак при ем, при Казимире, там ни единой латынской епископии не было! Уважал, стало, и нашу веру… А уж вот Людовик – тот, бают, и польской речи не ведал, в уграх сидел. Ето последнее дело, когда государь своей земли не боронит и свой народ не любит! Великие князья, того же Мономаха возьми, альбо Невского, да хоть и Михайлу Ярославича, хоть и прадеда твоего, Данилу Лексаныча, в первую голову заботились о земле, о смердах! Иначе зачем и князь? Тот не князь, кто земли своей не бережет!
– А у нас? – со смущением вопросил Василий, понимая, что в миг сей немножко предает своего отца. – Вот у их Ольгерд, Казимир, а у нас?
Данило посопел, подумал. Отмолвил честно:
– А у нас всему голова покойный владыка Алексий был! Он и батюшку твово воспитывал, и княжеством правил, и от Ольгерда землю боронил, и пострадал за Русь, едва не уморили ево в Киеве… Так вот и реку: исполины были! Великие держатели земли! Великое было время! Суровое! Невесть, не было бы таких людей, и Литва и Русь погибли бы в одночасье, да и Польша не устояла, под немцем была бы давно…
Были великие князья! Да вот умерли. А енти-то, хошь и Ягайло с Витовтом, токмо о себе, о своем… Лишь бы на столе усидеть… Не понимаю я етого! Не по-людски, не по-Божьи!
Теперь вот у Людовика сынов не стало, дак он уж так ляхов уламывал: возьмите, мол, дочку на престол! А королеву брать – надобен и король! Да уж править-то завсегда мужик будет, не баба! Редко когда… Как наша Ольга, да и то уже в преклонных годах… А Ядвига што? Дите! Кто надоумил с Ягайлой ее свести? Похоже, святые отцы! Боле некому… Ихняя печаль – православных в латынскую веру перегнать, об ином не мыслят. Дениса, вишь, держат в Киеве, в нятьи, греков неволят унию принять…. А не выстоит православная церковь – и Руси в одночасье пропасть!
– А нас не захватят? – спрашивает наконец о самом главном Василий, преодолев давешний стыд.
Старик молчит, думает. Проснулся вовсе, от такого вопроса не заспишь!
– Сам опасаюсь тово, а не должны! Может, укрепят грамотою какой… Все ж таки ты в отца место, и про Софьюшку нашу речь была промежду сватов, дак потому…
– А в латынство не будут склонять?
Старик тяжело приподымается на ложе, сопит обиженно:
– Не имут права! А будут… Помни одно, княжич: Михайло Черниговский, святой, при смертном часе веры своей не отринул, не поклонил идолам! Земное – тлен! А Царство Божие – вечно! Так-то!
Василий молчит. Молчит глубоко и долго. И уже когда по ровному дыханию догадывает, что боярин заснул, отвечает тихонько:
– Не боись, дедо, веры православной своей и я не отрину вовек!
Глава девятая
Любопытно бывает взглянуть на привычное (привычное, как воздух, которым дышишь!) с другой, противоположной стороны и другими глазами.
Мягкие зимы, обрушившиеся на Россию в исходе XX столетия, для нас почти бедствие. Хочется морозов, твердого льда, хруста и визга настывшего снега под ногами, под полозьями саней, белых столбов пара над трубами убеленных инеем изб, сверканья наста под лучами низкого зимнего солнца, словно мирады драгоценностей, рассыпанных под ногами, и того легкого, чистого, до дрожи в груди, обжигающего холодом воздуха, который неотделим от понятия истинной русской зимы! Незримая граница, называемая отрицательной изотермой января (суровые зимы, затяжные осень и весна, короткое лето), легла рубежом меж Русью и Западною Европой, вызвав бесчисленные различия в характере хозяйства, в жизни самой, в обычаях, укладе, вкусах – в чем угодно – меж нашей страною и Западом, который при всех своих внутренних несхожестях, к нам относился и нам противостоял как единое целое: «католический мир», влияние которого на нас далеко не всегда и не во всем было благодетельным, как утверждают западники, ибо все попытки построить ту же Францию в России разбивались о преграду природных и психологических отличий. Да и нам, нашей государственности, вряд ли стоило преодолевать тот рубеж. Присоединение Польши в конце XVIII столетия явилось катастрофою для России, хотя поляки, не как нация, а как люди, по своему славянскому сродству очень легко входят в русскую жизнь и легко растворяются в ней, подчас даже и оставаясь католиками.
Отрицательная изотерма января полагает границу меж Литвою и Польшей, и несколько забавно читать русичу суждения тогдашнего, от XIV столетия, польского историка об ужасах литовской зимы (хотя от Вильны до Кракова не дальше, чем от Новгорода до Москвы).
В самой Польше зимы были тоже не итальянские и не французские даже. Тогдашняя Польша представляла собою обширную болотистую равнину, сравнительно недавно вылезшую из воды (недавно по геологическим срокам, где счет идет не на столетия, а на десятки и сотни тысяч лет), густо покрытую лесами, с обширными озерами и медленно текущими реками. Жители тут чаще занимались охотою и скотоводством, чем земледелием. (С тех пор многие озера уменьшились, леса поисчезли и пашня увеличилась в десятки раз.) Плотины и мосты в те века являлись предметом государственных забот, а речное судоходство – важнейшим промыслом, как и ловля рыбы – броднями и неводами, вершами, саками, плетеными волокушами, слабницами и десятками других местных орудий лова. В лаптях, «хадаках», ходили еще и потому, что в лесах и болотах, по трясине и грязи, это был самый удобный, да и дешевый, вид обуви. В Польше славились липовые леса с обширными бортями, и сыченого хмельного меда готовили очень много. Был разработан целый устав – «бортничье право», имелись «медовые старосты» и тому подобное. Там и сям, особенно в Малой Польше, примыкающей к Литве, росли огромные дубы, пользовавшиеся почетом и поклонением. Деревню можно было купить за пару волов, да шесть локтей коричневого сукна, да несколько лисьих шкур или за двадцать гривен серебра и две одежды, а были дубы, оцениваемые в сто гривен! В дуплах таких дубов прятался всадник с конем, на ветвях возводились целые башни. Замок меченосцев Фогельзанг был построен на ветвях дуба. У подошвы Бескида рос дуб, в корнях которого били три источника, дающие начало рекам; Днестру, Сану и Тиссе. Много спустя показывали дубы, под коими Казимир Великий творил суд и расправу.
Целые стада лосей, туров, зубров, вепрей, оленей, косуль бродили тут, леса кишели лисицами, медведями и волками, не счесть было зайцев, куниц, выдр и бобров. Дикие лошади встречались еще в XV столетии. Король, епископы и шляхта присваивали себе право охоты на крупных животных, но все равно дичи было изобилие. Изобилие было и домашнего скота: коров, овец и свиней. Шерстяных тканей было больше, чем полотна (их вывозили даже в Новгород), и шляхта ходила в овчинных свитах (в частности, сам Ягайло, даже став королем Владиславом, всю жизнь в обиходе носил простой тулуп), почему от польских панов, на вкус приученного к благовониям западного рыцаря, постоянно разило овчиною. Каменное зодчество, горнорудное дело (серебряные, оловянные, медные рудники) и европейский утонченный быт стали развиваться только при Казимире Великом. Еще и столетие спустя после Кревской унии Польша почиталась бедною по сравнению с роскошною и богатой Венгрией.
И все же! В то время как меж Вислой и Одером розы цвели дважды в год, в Литве, как пишет польский историк, зима продолжалась десять месяцев в году, «а лето скорее представляется в воображении, чем существует в действительности» и длится всего два месяца, так что хлеб не успевает созреть, почему его досушивают на огне. (Видимо, разумелись такие же, как на Руси, овины для сушки снопов.) Морозы такие, что вода в котле, поставленном на огонь, кипит ключом, а рядом плавает нерастаявший лед. У многих жителей зимой отмерзают носы, ибо «застывает находящаяся в них жидкость», а иные и вовсе умирают от холода. Ну и конечно, описание заключается изображением дикости нравов литовских язычников, которые жестоки и вероломны, хотя «с удивительной верностью хранят свои тайны и тайны своих государей», голодая весь год, во время главного своего осеннего праздника предаются три дня «неумеренному обжорству и пьянству», а возвращаясь из успешного похода, сжигают в честь своих нечестивых богов самого красивого и знатного пленного рыцаря… Хотя, когда отряд немецких рыцарей врывается в литовскую деревню во время свадьбы, истребляя всех подряд, в том числе и невесту с женихом, о дикости «Божьих дворян» почему-то не говорится.
Пиры, благовония, танцы, песни менестрелей, рыцарские турниры и разработанный дворцовый этикет надежно прикрывали то, о чем Западная Европа избегала говорить: художества ландскнехтов, торговлю церковными должностями, разврат епископов и самоуправство знати, которая подчас вела себя со своими же гражданами не лучше, чем в завоеванной стране. Пирующие польские шляхтичи могли, для пополнения запасов, ограбить соседнюю деревню, угнать скот, чтобы тут же его и пропить.
Были ли русичи благороднее? Едва ли! Последующие века показали, что и наша власть способна на всякое, но тогда, в четырнадцатом, попросту было не до того. Отчаянное порою положение страны требовало национальной спайки, уже незнакомой барствующему Западу, в силу самой географии своей избавленному от постоянных угроз вражеских нашествий. Лишь турецкая экспансия заставила западные государства пусть ненадолго, но как-то сплотиться между собой. А постоянные феодальные войны друг с другом не затрагивали главного: самой организации жизни. Те и другие были рыцари, те и другие – католики. И жили одинаково, подражая друг другу, и государей принимали свободно из иных земель, нимало не обинуясь тем, что очередной претендент подчас не понимал и языка страны, где он садился править…
Все еще беспечно пировали порядком изнеженные рыцари. Жаловались на ужасы иного похода, во время которого приходилось спать на соломе, а не на перинах и, неимоверно страдая, пить простую воду за неимением французского вина.
Но времена веселого рыцарства уже проходили. Они проходили неотвратимо, хотя еще не скоро будет написан «Дон Кихот Ламанчский», окончательно похоронивший древнюю рыцарскую поэзию. Рыцарям нынче требовались деньги. Наступала пора погонь за выгодными браками. Наследницы великих состояний в конкурсах невест обгоняли признанных красавиц. Лишь в «Великой Хронике о Польше, Руси и их соседях» можно было прочесть о драмах любви, о ревности и мести, опрокидывающих судьбы государств, но все эти рассказы относились к XI, много к XII столетию. Теперь же, в конце XIV, чувства гибли под тяжелою поступью расчета, а безудержная воля королей все чаще начинала наталкиваться на обдуманное сопротивление городов и упрямое противодействие земель.
Спросим: а почему польским королем оказался француз, Людовик Анжуйский, за тридцать лет ожидания престола так и не удосужившийся выучить польский язык? И жил в Венгрии, в Буде, и был признанным польским королем, судил и правил, назначал и смещал, награждал и карал. В самом деле, почему? И почему свободно порхавшие по престолам Европы самодержцы именно в XIV столетии все более стали сталкиваться с волею народов, требовавших от повелителей своих хоть какого-то соответствия интересам нации? Почему полякам занадобилось, чтобы та дочь Людовика, которую они согласятся признать королевою, обязательно жила у них, в Польше, в Краковском замке, Вавеле, и никак иначе? Почему Людовик Анжуйский, короновавшись в Кракове, смог, свалив королевские регалии и наследственную корону Пястов на телегу, увезти их за собою в Буду, а затем править Польшей, вовсе не появляясь в ней? И это сразу после Казимира Великого, как никогда и никто укрепившего польское государство! Почему мог он и почему не могли последующие ему? Все это нелегко объяснить, как и явление Яна Гуса, как и трагедию гуситских войн, вскоре потрясших срединную Европу до самого основания!
Но пока еще все было тихо. Людовик арестовывает возжелавших самостоятельности польских вельмож, и те сносят это почти без ропота. Людовик организует поход на Червонную Русь, в котором его всячески поддерживают именно поляки, а потом дарит завоеванные земли венгерским магнатам, и опять ничего, никакого открытого протеста. У Людовика нет сыновей, некому оставить престол, лишь три дочери, и он уговаривает польскую господу принять в качестве короля одну из его дочерей. (О малолетней Ядвиге никто еще не думал, но умерла ее старшая сестра, и тогда две оставшиеся дочери оказались наследницами венгерского и польского престолов, при Людовике объединенных в одно государство, включающее Хорватию, Долмацию и множество иных земель и не уступающее по силе Франции или Германской империи.) И опять, невзирая на то что в Польше по традиции была не принята женская власть, магнаты соглашаются с королем, соглашаются отменить свой же приговор 1355 года, выговаривая лишь право потребовать пребывания королевы на польской территории, в Кракове. И почему после смерти Людовика в 1382 году поляки не изменили данной мертвому королю присяге?