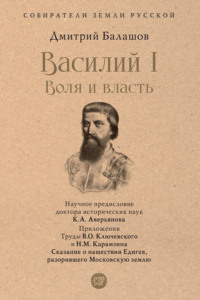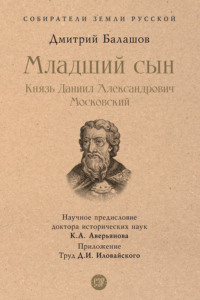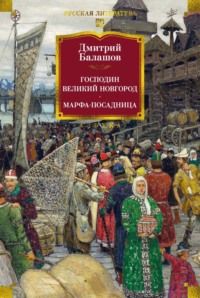Полная версия
Государи Московские. Святая Русь. Том 1
– Кажется, так! Пошли ему… Нет, лучше сперва я сам поговорю с князем! – И снова тень боли мелькнула в его глазах. Князь ныне мог и не послушать своего престарелого владыку… – Нет, напиши, пошли, пусть пришлет покаянную грамоту![1] Тогда мне легче станет баяти с Дмитрием! – произнес он. Вступающий в силу нравный князь тревожил Алексия все больше и больше. Оба надолго смолкли, Леонтий складывал вощаницы, коротко взглядывая на владыку.
– Скажи, отче, – вопросил он негромко. – Что содеял бы ты, ежели Дмитрий от некоей хворости, черной смерти или иной зазнобы какой занемог и погиб?
Медленно оживали, становясь, как прежде, прозрачно-глубокими, старые глаза на высохшем пергаменном лице, так в пучине морской проглядывает порою донная гибельная глубина, и словно бы вновь наливался силою выпуклый лоб, а безвольные доднесь персты хищно врастали в резное дерево подлокотий.
– Я остался бы жить, – тихо и властно произнес Алексий. – Я остался бы жить, дабы воспитать княжича Василия до мужеска возраста, яко великого князя Владимирского! Дело Москвы, дело Руси не должно погибнуть ни от какой случайной притчины!
И вот таким именно хотел узрети владыку Леонтий. Вот таким! И узрел. И почуял волну горячей любви и нежности к этому великому старцу, вновь, как и прежде, одолевшему духом своим немощную и бренную плоть.
– Спасибо тебе, Леонтий! Но ты ведь не с тем приходил ко мне, сыне? – тихо вопросил Алексий, глядя задумчиво и устало на верного сподвижника своего.
– Да, отче! Помнишь Никиту Федорова? – Алексий молча кивнул головою. – У сына егового и вдовы сябер отобрал погорелое место на Неглинной. Приехали хлопотать. Можем ли мы помочь им?
– Напиши грамоту. Я приложу свою печать, – не задумываясь отмолвил Алексий. – Дьяка… Вызову к себе. Чаю, слово мое пока еще не исшаяло на Москве!
И когда уже, сложив вощаницы, Леонтий намерил уходить, Алексий произнес тихо:
– Послушай, Леонтий… В самом деле, как это хорошо! Родовое место! На пожаре, на пустой, выгоревшей земле! И до двадесяти летов никто не вправе занять его. Никто! По закону. По «Правде Русской»! Дабы объявился хозяин, владелец месту сему! Дабы не погасла свеча, не истаяла жизнь! И это вот родовое право на землю и жизнь на земле обязаны мы защищать от насилия и татьбы… Даже от самой великокняжеской власти, – прибавил он, неожиданно сам для себя.
Леонтий вздрогнул. Вгляделся в сухое пергаменное лицо, в уже вновь далекий, нездешний взор. Вот как? И от самого князя? Родовое право каждого смерда на землю свою!
– Как это хорошо! – вновь прошептал владыка.
Леонтий вышел, тихо притворивши дверь. Подумал о скором прибытии патриарших клириков, о чем так и не посмел сказать днесь Алексию. «И ему еще предстоит вынести это!» – тихо ужаснул про себя.
Он, Леонтий, на все был готов ради наставника своего, даже на смерть, но, увы, токмо единого надобного – здоровья и лишних лет жизни – не мог он передать владыке.
Глава двадцатая
К радости Никитиной вдовы, Леонтий сдержал свое обещание. В ближайшие дни (Москва готовилась к походу, и Иван с матерью сидели невылазно в городе) Алексий побеседовал с дьяком, и на Неглинную, к упрямому соседу, были посланы приставы, после чего, ворча, как собака, которую отогнали от кости, тот уступил. Мать с сыном отмеряли по снегу границы своего старого двора, сосед пыхтел и супился, пытаясь оторвать хоть кусок, хоть ту землю, что, захватив, занял сараем, и Наталья готова была уступить, но тут Иван, вздымая подбородок и недобро шевеля желвами скул, вмешался, отстранив мать рукой.
– Вота што! Разбирай сам, тотчас, не то ясу с ратными раскидаю, целой доски у тя тут не останет, внял?
И сосед, укрощенный до зела, вновь уступил, сперва ворча: «Наехали тут!» – а там и посвистывая принялся отдирать настылую кровлю.
– Кто наехал-то?! – звонко и страшно спросил Иван, берясь за рукоять отцовской сабли – был в оружии. И сосед, глянув скоса, совсем замолк, резвее принялся вынимать из пазов наледенелые тесины кровли.
– Весной будем ставить двор! – так же громко, настырно возгласил Иван, озирая отбитую у врага землю. Он стоял на снегу молодым голенастым петухом, расставив ноги, и был столь же страшен, сколь и смешон. И Наталья взглядывала то на него, то на сябра, который, щурясь, тоже взглядывал на молодца, что-то прикидывая про себя и кивая своим мыслям.
– Магарыч бы с тебя, хозяйка, – высказал наконец, и Наталья, не улыбаясь, кивнула в ответ:
– Поставлю!
– Магарыч ему… – проворчал Иван, впрочем и сам поняв, что дело пошло на мировую.
– Из Острового мужиков надо созвать, – хозяйственно говорила Наталья, когда они с сыном, порешив дела и отпустив пристава, садились в сани. – Вот воротишь из похода, тогда… – И голос чуть дрогнул. Но Иван, словно не заметив материной заботы, возразил, все еще ворчливо:
– Тогда поздно станет. Лес надоть возить теперь! Ворочусь, чтобы и лес был навожен, и тын стоял! Земля пообмякнет к той поре.
Наталья, не отвечая, забрала руку сына в свои ладони, сжала, притянув к сердцу. «Вернись только! Только вернись невереженый!» – подумалось про себя.
Глава двадцать первая
Приезд патриарших посланцев совпал с выступлением ратей в поход, и оба грека благодарили Господа, позволившего им миновать ордынские степи до начала ратной поры. Они остановились на Богоявленском подворье и, получивши серебро, масло, овощи, рыбу и хлеб, начали вызывать к себе духовных и бояр, расспрашивая о прегрешениях и шкодах верховного главы Русской церкви. Брал ли сугубую мзду за поставление? Замечен ли в лихоимстве или иных каких отступлениях от истинно праведного жития? Как получилось, что захватил в полон, порушив данную клятву, тверского князя Михайлу и тем вызвал сугубое кровопролитие и котору братню на Руси? Не посылал ли тайных гонцов с отравою к великому князю Литовскому Ольгерду? Почто разрешал от клятвы литовских беглецов, выезжающих на Москву, и тем учинял сугубое раздрасие с великим князем Литовским? Почто не выезжал в епархии Галича и Волыни для духовного окормления тамошней братии?
Вопросы один другого нелепее и каверзнее… Нет, и того не скажешь! Вопросы были составлены дельно, толково и зло. Все ведь было: и обманный плен тверского князя, и гибельные «литовщины», и – да! – Алексий постоянно разрешал от клятвы верности Ольгердовых подданных, бегущих в Залесскую Русь… Да, вмешивался в дела западных епархий, сам не являясь ни в Галич, ни на Волынь (чем окончило его «явление» в Киев, где Алексий был схвачен, посажен в поруб и едва не погиб, послы словно забыли). Киприанова рука была тут во всем, и даже в том сказывалась, коих бояр вызывали для беседы греки. Все то были ненавистники Вельяминовых, чем-то и когда-то обиженные или утесненные Алексием люди. Патриарху должен был быть представлен пристойный, умеренно обличающий доклад, который… Который меж тем никак, ну никак не получался у Дакиана с Пердиккою!
Только что битый час толковали оба почтенных синклитика с боярином Федором Свиблом из рода Акинфичей. Боярин сидел на лавке, откинувши рукава крытого атласом выходного охабня, рукава нижнего зипуна забраны в шитые серебром наручи, на пальце золотой перстень с дорогим камнем ясписом, сидел и – не понимал.
Князя Михайлу взяли по приказу великого князя Дмитрия и паки отпустили восвояси; в набегах на Русь виноват Ольгерд; служилым людям воля отъезжать господина своего, так и по «Правде», и по обычаю надлежит; в Киеве владыку яли по приказу Ольгердову и мало не уморили в яме, дак тут и поезди, тово! Что касаемо отравы, симонии, поборов или иного чего, то лжа! Батьку Олексея всякой смерд на Москве держит яко отца духовного, и худа об ем не говаривал никто.
С игуменами общежительных монастырей говорили допрежь того, и отповедь была та же самая, и паче того: владыку Алексия разве святым не называли!
Давеча, проходя двором, греки узрели кучками собравшийся народ. Их провожали хмурыми взорами, и кто-то молодо и зло выкрикнул из толпы:
– Нашего батьку Олексея не троньте!
И теперь этот боярин, с которого, как с округлого окатыша вода, соскальзывали все въедливые греческие вопросы, и одно ясно стало для византийских клириков: без сугубого разговора с великим князем ничего здесь не совершишь!
Теперь они ели наваристую и слишком жирную стерляжью уху, разварную осетрину, косились на белорыбицу и севрюжину, нарезанные ломтями, на блюда с моченой брусницей, морошкой, огурцами, капустой… А за рыбной ухой должна была последовать каша из сорочинского пшена с изюмом, пироги и блины – помогай Бог! Так плотно есть на родине им не приходилось. Григорий Пердикка (его мучили прострел, подхваченный морозной дорогою, и застарелый геморрой, не дающий спокойно сидеть и спокойно думать) ворчал, поругивая и московитов, и настырное ихнее гостеприимство, и тяжесть трапезы, впрочем отправляя в рот стерляжью уху ложку за ложкою. Иоанн Дакиан думал… Рассеянно ел, рассеянно обтирал рушником руки и бороду. Не получалось! Все было так и не так! Решал ли Алексий или кто иной, все одно приходило признать, что решала вся Москва! В Константинополе, при таковой оказии, уже набежал бы целый двор жалобщиков и хулителей, а здесь: «Батьку Олексея не троньте!» Эко! Он воздохнул. Душою был Дакиан на стороне Алексия и потому сейчас внимательно озирал сердитого и «развихренного» спутника своего, прикидывая, мочно ли станет отклонить хулы, возводимые на Алексия, и не получить в ответ доноса со стороны своего спутника? Занятие обычное у византийцев той поры и еще вполне неведомое русичам – сочинение доносов друг на друга – очень и очень могло навредить карьере. Дакиан любил Алексия, но паче всего любил свой чин, оклад и покой и уходить из патриаршей канцелярии куда-нибудь на Афон рядовым иноком не хотел сугубо.
– Что скажет великий князь! – изрек наконец Пердикка, подымая на Дакиана замутненный страданьями плоти и сытною трапезой взор, и Иоанн быстро и благодарно склонил голову. Что скажет князь! Так, в самом деле, будет спокойнее! А князь, по слухам, не вельми благоволит к старому своему митрополиту…
Греки согласно, едва отведав, отодвинули мисы с кашею и глянули друг на друга. Все-таки многодневный путь сквозь чуждые земли, ночлеги бок о бок, одинокие и часто скудные трапезы, страх разбоев, когда их караван нагоняли дикие всадники на косматых конях, выкрикивая угрозы на непонятном языке, – все это сближало, сблизило обоих синклитиков, и ежели Пердикку не припрет, во время оно, приступ его болезни, доноса на него, Дакиана, даже ежели они решат оправить владыку Алексея ото всех возводимых на него укоризн, он не напишет… А Пердикка думал с тоскою о том, что теперь надобно выходить за нуждою на мороз, и он бы лучше воспользовался ночною посудиной, поставленной им в келью, но было стыдно перед Дакианом, и потому, когда тот поднялся, дабы выйти на двор, Пердикка с душевным облегчением, даже с любовью, проводил его взором…
А Дакиан вышел на холод, подняв голову, обозрел крупные и близкие звездные миры и, покосясь на толпившийся под воротами народ – и ночью не уходят! – сам зашел за келью, к тому месту, где надлежало справлять нужду. Присел, ощущая одновременно холод и свежесть, запахи снега и дыма с поварни, оправил одежды, невольно, в сумерках, улыбнувшись себе. На Руси ему нравилось, тут были покой и простота жизни, невозвратно утерянные там, на далекой родине, под тяжестью мраморных сводов, среди цветных колоннад, в осаде толпы нищих и попрошаек.
И святость здесь была. Истинная, не напоказ. Вновь, с легким стыдом и душевным сокрушением напомнилась ему та, давняя, встреча с Сергием, за тайную насмешку над коим был Дакиан наказан мгновенною слепотой. Ни слепоты, ни последующего, совершенного Сергием, исцеления от нее Иоанн Дакиан объяснить себе так и не сумел, но опасливое уважение к русским лесным инокам осталось у него с той поры на всю жизнь.
Он сделал несколько шагов в сторону, остановился у начала тропинки, ведущей в застылый, в инее, монастырский сад. Москва чуть пошумливала в отдалении, заливисто взлаивали псы. Откуда-то, верно с княжеского оружейного двора, доносились звонкие удары по металлу… Ежели кончать жизнь в стенах монастыря, то почему бы и не здесь, не в этой лесной стороне, где жара летом и холод зимой, где ежегодно весною реки выходят из берегов, а небо в ту пору так чисто и сине, как это никогда не бывает на юге!
Он в задумчивости прошел двором, в сторону своей кельи. Ухнуло било, отмечая часы. Какая-то старуха, замотанная в плат, в рваном овчинном зипуне, метнулась ему под ноги: «Батюшко!» – он поднял руку для благословения, но старая просила о другом:
– Владыку Олексея не замай, батюшко! Отца нашего духовного!
И он благословил, и обещал, чуть дрогнувшим сердцем, «поступить по истине».
– По истине, батюшко, по истине! – подхватила старуха. – Святой он, батюшко! Ежеден за него Бога молим!
Пердикка, облегченный, уже укладывался спать. Помолясь, потушили свечу, оставив одну лампаду. Тотчас завел свою песню сверчок. Потрескивало дерево. В горнице было жарко. От окна, затянутого бычьим пузырем, тянуло свежестью. Они лежали рядом на широком соломенном ложе, укрытые духовитой овчинною оболочиной, и думали. Пердикка, нашедший наконец удобную позу, уже засыпал, всхрапывая, а Иоанн все думал и думал, составляя в уме осторожные округлые слова в оправдание Алексия. Наконец и он смежил вежды.
Глава двадцать вторая
Князь Дмитрий узнал о патриарших посланцах от своего печатника Митяя.
Коломенский поп, вошедший в нежданную силу при молодом князе, терпеть не мог старцев общежительных монастырей, в первую голову Сергия Радонежского с его племянником Федором и Ивана Петровского, признанного начальника общежительным монастырям на Москве. Митяй любил вкусно поесть, любил роскошь, любил красоту церковного обихода и пения, был неглуп и премного начитан, и потому паки подчеркиваемая скудота и нарочитое лишение всякого личного зажитка у общежительников – претили ему.
Нелюбовь к «молчальникам» переносил он и на Алексия, всячески покровительствующего общежительным обителям. И потому, не задумывая вдаль, был про себя доволен тем, что несносного старца немного укротят прибывшие из Константинополя греки. Чаял, что и князь, многажды недовольный Алексием, будет рад не рад, но благожелательно примет патриарших синклитиков. С тем и шел ко князю.
Но Дмитрий выслушал весть необычайно хмуро и на осторожные Митяевы слова: «Сам же ты, княже…» – резко отверг:
– То я! А здесь – новые происки Ольгердовы! Опять заберет Новосиль. Ржевы мало ему!
Он сорвался с лавки, крупно заходил по покою, не обращая внимания на то, что Митяй, большой, осанистый, стоит перед ним, так и не усаженный в кресло. Дмитрий обернулся наконец, сжав кулаки. Обозрел печатника своего почти враждебно:
– Этот Киприан – литовский потатчик! Ненавижу! Трижды громили Москву. Кого… Ежели… Сами поставим! А про то, что у нас с батькой Олексием, – мне ведать! Не им! Так и передай! Да скажи, греков приму. Опосле. Ступай! – бросил он, так и не посадивши Митяя.
А тот, изобиженный было выйдя от князя, вдруг замер и, густо багровея, начал понимать. Ведь умри, в самом деле, Алексий, – а старик зело ветх деньми! – и кто-то, заместо иноземного Киприана, возможет занять его стол? О столь головокружительной карьере он, беглец, до сих пор еще и не помышлял.
Позже, от бояр, Дмитрий выслушал патриаршую грамоту и паки вскипел, узрев, что рукою обвинителей водил доподлинно князь Ольгерд, сугубо утвердясь в своих прежних подозрениях.
Послание, долженствующее понравиться литвину, и должно было вызвать сугубую ярость Дмитрия, тут Киприан крупно ошибся. Ошибся и в том, что Митяй поддержит его перед великим Московским князем. Дмитрий еще и вечером, в изложне, пыхал неизрасходованным гневом, и Евдокия только гладила его, прижимаясь лицом к мягкой бороде своего милого лады.
– Мне Олексий в отца место! Понимать должно! Что он в Литву не ездит? Дак плевал я на то! Мне патриаршьи затеи не надобны. Пущай мой владыко у меня и сидит! И неча о том! И Михайлу ял я! Своею волею! Князь я великий на Москве али младень сущий?
– Князь! Князь ты мой светлый, – шептала, радуясь, Евдокия. Ибо и ей, как и всем на Москве, дико было зреть суд над владыкою Алексием, делами, трудами, святостью жизни, самим преклонным возрастом своим заслужившим почет и любовь всего Московского княжества.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Сноски
1
Грамота эта так никогда и не была получена Вельяминовым. Монашек, что вез послание, был схвачен в степи и погиб. Грамота, пройдя через многие руки, попала к генуэзскому консулу в Кафе, а от него к тому самому Некомату-бреху, который подбивал Ивана Вельяминова на борьбу с великим князем. Некомат, подумав, порешил грамоту сжечь, а Ивану не говорить ничего. Трудно сказать, как повернулась бы судьба Ивана Васильича Вельяминова, получи он послание владыки Алексия вовремя.