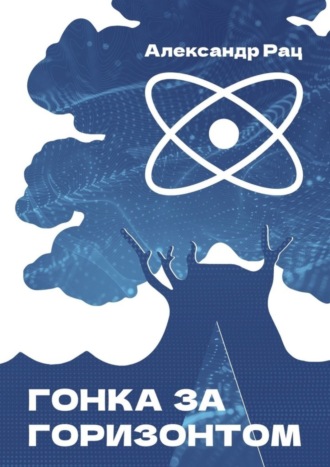
Полная версия
Гонка за горизонтом
Основной костяк стран-участниц ОИЯИ представляли те же бывшие социалистические страны. С учетом распада Советского Союза сохранение Института как международной межправительственной организации государств, вдруг переставших быть друзьями, представлялось, мягко говоря, неочевидным.
От директора Института венгерского академика Деже Дежевича Киша трудно было ожидать решения возникших проблем – ему было сложно ориентироваться в бурном потоке перемен в фактически чужой для него стране. Искать решение мы отправились к исполняющему обязанности министра атомной энергетики и промышленности СССР Б. В. Никипелову. Борис Васильевич подтвердил важность для страны Объединенного института ядерных исследований, прежде всего как окна для сотрудничества с исследовательскими центрами развитых стран мира. На предложение об участии в планирующемся заседании Комитета полномочных представителей Института ответ был пессимистичным: «В качестве кого я там буду участвовать, как министр несуществующего государства?..»
Возразить было нечего. Но стало понятно, что ответ, скорее всего, следует искать во вновь образованном российском правительстве. Прочитали в газетах о том, что министром науки и технической политики в новом правительстве России назначен выпускник МФТИ Б. Г. Салтыков. Созвонились, договорились о встрече. Встреча началась с замечания Бориса Георгиевича о том, что он недавно назначен и пока еще точно не знает даже, какое министерство он возглавляет. В министерском удостоверении написано: министр науки, высшего образования и технической политики, а на табличке у входа в министерство слова «высшего образования» отсутствуют. Про Дубну министр сказал, что видел город с яхты при входе с Волги в Канал имени Москвы. Переходя к цели визита, мы изложили министру риски утраты ОИЯИ как международной исследовательской организации и предложили рассмотреть возможность вступления России в число стран-участниц ОИЯИ. Отдельно, в связи с принципом раздела совместного имущества между бывшими советскими республиками «на нашей территории всё наше», поговорили о целесообразности сохранить имущественный комплекс Института как долевую собственность стран-участниц. Министр отнесся к нашим предложениям благоприятно. Позже стало известно, что результаты нашего разговора были доложены Государственному секретарю, первому заместителю председателя правительства России (председателем правительства тогда был Б. Н. Ельцин) Г. Э. Бурбулису, который одобрил вхождение Российской Федерации в качестве страны-участницы ОИЯИ.
При открытии вскоре состоявшегося заседания Комитета полномочных представителей ОИЯИ сидящий среди гостей в зале (не за столом) Б. Г. Салтыков попросил слова и заявил от имени правительства России о просьбе принять Российскую Федерацию в число стран-участниц ОИЯИ и о правопреемстве Российской Федерацией ранее выполнявшихся СССР функций страны местопребывания Института. В ответ на заявление Б. Г. Салтыкова украинский представитель заявил о желании Украины также стать страной-участницей ОИЯИ. А на следующий день, после ночных переговоров с президентом Белоруссии С. С. Шушкевичем, белорусский представитель сообщил о желании Республики Беларусь также стать страной-участницей. Ни одна страна в то время не прекратила сотрудничества с ОИЯИ. Через некоторое время Германия и Венгрия сменили статус стран-участниц на статус ассоциированных членов. Борис Георгиевич Салтыков со времени вступления России в число стран-участниц ОИЯИ в течение следующих лет являлся полномочным представителем Правительства РФ в ОИЯИ.
Не так удачно закончились наши попытки улучшить состояние Дубненского машиностроительного завода. Идея заключалась в том, чтобы «вписать» завод в кооперацию с ОКБ Сухого. В 1990 году ОКБ Сухого получило разрешение на экспорт истребителей СУ-27. Уже тогда, по оценкам зарубежных экспертов, СУ-27 должен был стать самым продаваемым истребителем в мире. Прогнозы эти, по крайней мере частично, подтвердились – всего зарубежным странам было продано около 300 машин СУ-27. Перспективным тогда казалось и производство разработанных ОКБ Сухого спортивных самолетов СУ-26 и СУ-29. Тогда мы еще про это не знали, но в 1992—93 годах на самолетах СУ-26 были выиграны национальные первенства США и Австралии. Принимался во внимание и опыт сотрудничества ДМЗ с ОКБ Сухого при отработке технологии сборки фюзеляжа штурмовика СУ-25. Встречу с генеральным конструктором ОКБ Сухого М. П. Симоновым помог организовать зам. генерального конструктора ОКБ Сухого, выходец из дубненского МКБ «Радуга» В. Г. Галушко. Переговоры с М. П. Симоновым велись в течение нескольких месяцев и сосредоточились в основном на передаче в Дубну производства спортивных самолетов и вновь разрабатываемых ОКБ Сухого экранопланов.
По результатам нашей встречи с министром авиационной промышленности СССР А. С. Сысцовым на завод, в обеспечение реализации совместных с ОКБ Сухого работ, был назначен новый директор П. К. Лырщиков. Однако проект сотрудничества ДМЗ с ОКБ Сухого «не взлетел». В последующие годы завод работал далеко не на полную мощность и дошел до состояния банкротства в 2005 году. Но в этой истории можно найти и положительные моменты. В самый трудный период завод не развалился на кусочки, сохранял возможности для производства и восстановления ракетной техники, и действительно вел такое производство, хотя и в недостаточных для полной загрузки объемах. Этот период растянулся почти на 30 лет – только в начале 20-х годов нового века вошедший в Группу «Кронштадт» Дубненский машиностроительный завод им. Н. П. Федорова обрел вторую жизнь как современное производство ракет и беспилотных летательных аппаратов.
По планам российского правительства начала 90-х страна должна была потерять промышленную электронику как отрасль. К этой отрасли относился и приборный завод «Тензор» в Дубне. К счастью, планы завода не совпадали с планами правительства. В 1992 году переходящий из советской в российскую юрисдикцию Минсредмаш перевел на должность директора завода с должности зам. директора завода-близнеца (приборный завод «Электрон» в Желтых Водах Днепропетровской области) С. А. Каплоухого. Начались поиски путей выживания. Я наблюдал за этим процессом и иногда принимал участие в происходящем, будучи членом совета директоров завода. Объем заказов и возможности выплаты зарплаты катастрофически уменьшались. Людей при этом не увольняли, а отправляли в длительные неоплачиваемые отпуска. Подход болезненный, но по сравнению с увольнениями менее травмирующий. Отпущенные временно «с работы» пытались искать свои пути заработков. Кто-то уходил в торговлю. Кто-то пытался обустроить собственное производство, ведь многие товары народного потребления были в дефиците.
Мэрия тогда приняла решение об упрощенной и ускоренной регистрации малых предприятий – в течение трех дней. За 1992 и 1993 годы в городе было зарегистрировано около двух тысяч предприятий. Наиболее успешным из основателей производственного бизнеса оказался бывший зам. начальника цеха завода «Тензор» Николай Иванович Захаров. Вспомнив полученные в молодости навыки столярного ремесла, он снял в аренду комнатушку в автотранспортном предприятии и начал изготавливать табуретки. Со временем освоил производство стульев, затем – мебели для кухонь. Через год сначала арендовал у Минсредмаша бывший склад макетов, а затем взял в аренду у мэрии заброшенную столовую бывшего строительного полка. Через месяц там уже работал производственный цех. Вскоре снова стало не хватать площади. За месяц переместил и расширил производство в бывшем свинарнике военного училища. Еще через год вернулся на родной завод, выкупив у «Тензора» большой производственный корпус. Численность сотрудников созданной Н. И. Захаровым Промышленной компании «Экомебель» превысила 600 человек. Кухни с фасадами из натурального дерева успешно конкурировали на рынке с итальянскими. Еще Николай Иванович почти достроил на собственные средства красавицу-церковь с пятью золочеными куполами. Было много задумок – не успел. Ушел из жизни в 2013 году, не дожив двух лет до шестидесяти.
Вторая «линия защиты» завода «Тензор» состояла в том, чтобы дать самостоятельность отдельным цехам, превратив их в дочерние предприятия завода. Напоминало известный лозунг: «Спасение утопающих – дело рук самих утопающих». Но смысл в этом был. У цехов оставались обязательства в приоритетном порядке исполнять заказы завода. Благодаря этому завод не лишался звеньев своих технологических цепочек. Но часть ответственности за выживание брали на себя руководители и коллективы цехов. У директора завода промышленной электроники, ясно, не было времени искать заказы на металлообработку или гальванику. А у коллективов соответствующих цехов были и интерес, и возможность сделать это.
Третья линия: не сидеть «собакой на сене», а сдавать в аренду или продавать незадействованные в производстве помещения. Именно в ходе реализации этой линии ПК «Экомебель» и разместилась в одном из заводских зданий.
Четвертая линия сохранения завода заключалась в том, чтобы избавиться от расходов на содержание построенного заводом жилья, детсадов, спорткомплекса, участков городских дорог.
Пятая линия, самая сложная: на падающих рынках промышленной электроники найти не просто новые заказы, но новые направления деятельности завода.
И первые такие направления вскоре появились.
17 июня 1992 года Россия и США подписали соглашение относительно безопасных и надежных перевозок, хранения и уничтожения оружия, предотвращения распространения оружия.
Соглашение это базировалось на одобренной Конгрессом США Программе совместного уменьшения угрозы, чаще называемой по именам американских сенаторов Программой Нанна-Лугара. Одним из компонентов программы являлось создание надежных технических средств охраны периметров территорий расположения российских ядерных объектов. Нужно было спроектировать, а затем наладить производство десятков и сотен километров заборов, оснащенных электронными системами обнаружения попыток пересечения периметра. Электронные заводы отказывались от такого заказа – переходить на изготовление заборов в их планы не входило. «Тензор» решил взяться за эту работу, даже будучи не совсем к ней готовым. Систему следовало проектировать не единожды, а для каждого объекта. До этого проектированием продукции, планируемой к производству на заводе, занимались профильные институты Минсредмаша. Пришлось создавать конструкторское бюро. Еще нужно было обеспечивать фактически строительные работы, монтаж и последующее обслуживание систем на объектах заказчика. Предстояло получить десятки российских и зарубежных лицензий и других разрешительных документов. Из-за сложностей с их оформлением стену в кабинете директора, со временем заполненную рамками с лицензиями, назвали «стеной плача».
Зародилось тогда и еще одно новое для завода направление – автоматизированные системы обеспечения пожарной безопасности.
Программа Нанна-Лугара в части систем периметровой охраны проработала целых двадцать лет – до 2012 года. А системы пожарной безопасности сложных объектов являются одной из основ производственной линейки завода до настоящего времени.
Отдельная история – создание совместного предприятия завода «Тензор» и французской компании Легран (Legrand). Переговоры о размещении производства Legrand в Дубне начались осенью 1992 года. Французы выбирали площадку, одним из вариантов стала Дубна. Уже тогда у Legrand было 19 заводов в разных странах мира, более 10 тысяч сотрудников и годовой оборот 2 млрд долларов. Кроме подготовленного цеха на «Тензоре», представитель французской компании Базиль Бреславцев потребовал предоставить участки под строительство коттеджей для руководства создаваемого предприятия. Земли было достаточно. Спроса на нее тогда не было. Предоставили. Затем поддержку проекта должно было продемонстрировать правительство (тогда еще – администрация) Московской области путем предоставления бюджетного кредита. Казалось, проект на этом закончится. Но область кредит предоставила – 300 тысяч долларов в рублевом эквиваленте.
Сейчас понимаю, что им не нужны были ни земля (после завершения срока аренды участки вернули в распоряжение города), ни деньги. Эти люди просто проводили в разных местах испытания уровня поддержки властей. Видимо, мы по результатам испытаний были кем-то во Франции признаны победителями, так как дальше начался процесс создания совместного предприятия в Дубне на промплощадке «Тензора». Из Франции приехал технолог для набора людей на новый завод. Вызывало удивление: почему технолог? Но у них так принято. Далее этот технолог попросил нас помочь в подборе кадров. У нас подбирать кадры принято по уровню профессиональной подготовки и деловым качествам. Француз нам объяснил, что не это главное. Главное в том, чтобы психология человека соответствовала поручаемой работе. Если человеку работа по душе, он на работе «летает» и быстро наверстает то, чему ранее не был обучен. За время совместной работы по созданию новой компании подобных «мелочей» мы узнали от французов немало.
В июле 1993 года пришло время обсуждать договор о создании совместного предприятия. Неделю совместно с командой «Тензора» провели в Париже и Лиможе, чередуя осмотр производств, беседы с французами об устройстве бизнеса и экономики в целом, обсуждения условий создания предприятия. Вернусь к этому подробнее в конце книги, здесь лишь скажу о том, что созданная совместного с Legrand небольшая компания «Летен» конечно, не могла внести заметного вклада в экономику города. Но общение с руководителями относительно крупной корпорации многому научило и команду «Тензора», и городскую команду. Прежде всего это касалось философии бизнеса, инвестирования, корпоративной культуры.
Решающей развилкой в судьбе завода «Тензор» стала запланированная на 1994 год приватизация. Продавцом акций завода выступил Комитет по управлению имуществом Московской области. Руководству завода удалось найти потенциального стратегического инвестора – созданную выпускниками МГУ компанию Steepler. К тому времени Steepler уже был эксклюзивным дилером Hewlett-Packard, русифицировал Windows, автоматизировал Государственную думу и каждый месяц продавал десятки тысяч игровых приставок Dendy. Проблема состояла в том, что к моменту проведения переговоров с компанией Steepler конкурс на продажу контрольного пакета акций «Тензора» уже был объявлен и для оформления документов не оставалось времени. Мелкий технический вопрос мог вычеркнуть из словосочетания «квалифицированный инвестор» первое слово… Вот если бы перенести срок проведения конкурса. Формальных оснований, увы, нет. Но вопрос-то важный!
Комитет по управлению имуществом Московской области располагался позади здания Моссовета на улице Станкевича (сейчас это Вознесенский переулок). Понимания в разговоре с председателем комитета В. С. Клешневым достичь не удалось. Но и принимать отказ нельзя – это был последний день, когда срок проведения конкурса еще можно перенести.
Вспомнил, что комитет подчиняется областному Минэкономики. От Станкевича до Козицкого – меньше полкилометра. Пошел разговаривать с министром экономики В. О. Власовым. Его я знал значительно лучше, чем В. С. Клешнева. Да и Виктор Олегович к нашей команде относился всегда внимательно. Выслушал, понял суть вопроса, позвонил В. С. Клешневу, велел мне возвращаться на Станкевича. По-видимому, руководители в разговоре между собой друг друга недопоняли – второй раз из комитета я вышел с тем же результатом. Решил еще раз идти в Козицкий. К делу подключился зам. министра экономики мудрый Е. И. Усков. Он поговорил с В. О. Власовым, потом – еще один звонок в комитет. Не знаю, о чем говорили – попросили подождать в коридоре. В третий в этот день поход в комитет к В. С. Клешневу я не попал – в приемной секретарь сказала, что встречаться незачем, так как вопрос о переносе срока конкурса решен…
Лет через 10 после этого посмотреть состояние прежней Дубны приехал начальник отдела науки и высоких технологий аппарата Правительства РФ Г. А. Масленников. Часа два мы с ним осматривали завод, разговаривали с тогдашним гендиректором «Тензора» И. Б. Барсуковым. На выходе с территории завода Геннадий Алексеевич задал мне всего один вопрос «Почему все-таки завод выжил?» Ответ на этот вопрос я кратко описал выше.
***В начавшемся в 1992 году процессе приватизации предприятий было немало развилок. Занимался вопросами приватизации в нашей команде председатель комитета по имуществу, а затем заместитель мэра Евгений Борисович Рябов. Кратко – об одной из развилок в процессе приватизации.
С целью снижения дефицита товаров народного потребления советской властью проводилась политика догрузки оборонных предприятий (предприятий девяти министерств оборонной промышленности) планами по производству товаров для людей. Тогда это называли ширпотребом. Завод «Тензор» в соответствии с такими планами выпускал пуско-зарядные устройства для автомобилей, а Дубненский машиностроительный завод – детские коляски. Здесь пойдет речь о цехе детских колясок на ДМЗ.
Производство это всегда было для завода непрофильным. Экономика его резко ухудшилась к началу девяностых из-за падения рождаемости и покупательной способности населения. Группа сотрудников цеха детских колясок в начале 1992 года обратилась в мэрию с предложением приватизировать цех не в составе завода, а как отдельное предприятие. Инициаторы предложили: в договор о приватизации включим обязательство новых собственников в течение года без уменьшения объема производства сделать новое предприятие прибыльным.
Как это будет сделано – не разглашалось. В этом чувствовался какой-то шанс. Мы согласились, решили вопрос о поддержке предложенной схемы в области. Сразу после приватизации обнаружили, что новое предприятие, получившее название «АПЕКС», переналажено на выпуск садовых тележек. Фактически все технологические процессы производства колясок для этого подходили. А спрос на садовые тележки был очень большим – теряющие работу люди активно занимались огородами, чтобы и занять, и прокормить себя. В течение следующих нескольких лет багажные полки отправляющихся в Москву электричек были забиты садовыми тележками – желающие подработать дубненцы везли продавать тележки на московские рынки. Через некоторое время ПКП «АПЕКС» восстановил и производство детских колясок в обновленном дизайне, и теперь дубненские коляски вполне могли конкурировать с немецкими. «АПЕКС» просуществовал 30 лет, занимая в лучшие свои годы изрядную часть российского рынка детских колясок.
***Наши усилия по поддержке предприятий, привлечению инвесторов и особенно по стабилизации финансирования содержания жилья и социальной сферы как-то смягчали ситуацию. Но – не быстро и в недостаточной степени. Цены сильно выросли, зарплаты и пенсии отставали. Немалое количество горожан не могли найти работу. Решили вынести на обсуждение Совета депутатов вопрос о расходовании части средств бюджета на социальные выплаты находящимся в сложной ситуации горожанам. Совет поддержал. Разработали правила. Понятно, что это должна быть не разовая акция, а регулярно работающий механизм. Создавать службу взялись два депутата городского совета – Е. А. Игнатенко и В. А. Блохина. Споров вокруг справедливости выплат шло немало: проверять реальные доходы человека в условиях системы взаимозачетов и неучтенного наличного оборота средств было практически невозможно. Случались курьезы, когда заявитель за пособием приезжал на «Мерседесе». Без ошибок не обошлось, но в целом система давала возможность нуждающимся не только поправить свое материальное положение, но и не чувствовать себя брошенными. Через некоторое время созданная в Дубне городская структура социальной защиты стала частью созданных позже областной и федеральной структур.
***Пик кризиса совпал с пиком дефицита школьных мест в городе. Места в детсадах в избытке (в основном из-за снижения рождаемости), а вот учить детей негде – появились вторые смены в школах. На строительство новых школ не было средств, да и стройка – дело небыстрое. Обратили внимание на возможность создания частных школ. Незадействованных помещений в городе немало, и предприниматели могли бы их приспособить. Но частное обучение требовало больших затрат. Соответственно, родительская плата оказывалась неподъемной. Обнаружили в этом деле несправедливость, устранение которой и помогло найти решение.
Финансирование образования в муниципальных школах велось из бюджета, то есть за счет налогов. Родители учащихся частных школ платили налоги по тем же правилам, что и родители учеников муниципальных школ. Цель частной школы – за счет средств заинтересованных родителей давать образование более высокого качества. Но обычное качество образования в частных школах также оплачивалось сполна родителями. Идея устранения несправедливости была несложной: предоставить частным школам из бюджета субсидию в расчете на каждого учащегося в сумме, которую бюджет тратит на каждого учащегося в муниципальной школе.
Для города это выгодно: у города не хватает школьных мест, но город финансирует обучение детей в другом учреждении в том же объеме, как если бы это были места в муниципальных школах. Для бизнеса и родителей такой подход также оказался подходящим – в первой половине 90-х в небольшой Дубне были созданы и функционировали семь частных школ. Мы стали лидерами в России по удельному количеству учебных мест в частных школах, о чем я узнал на заседании коллегии Минобразования РФ, куда был приглашен в связи с рассмотрением вопроса о частном школьном образовании. Но дело было не в лидерстве – без дополнительных бюджетных затрат вторая смена из муниципальных школ переместилась в первую смену школ частных.
Глава 2. Технополис «Дубна»
Функции оперативного и стратегического планирования в советское время выполнялись партийными органами. К началу 90-х эти функции в Дубне фактически перестали исполняться как из-за общего ослабления партийного влияния в стране, так и из-за неудачной смены руководства горкома партии после случившегося нарушения требований антиалкогольной компании в 1986 году. Поэтому поиском путей планирования развития города занялся вновь избранный городской Совет депутатов. В группу проектов и программ развития города (официально – комитет по экономической реформе) кроме меня вошли старший научный сотрудник ОИЯИ А. С. Щеулин и инженер МКБ «Радуга» М. А. Марков.
Первым делом был проведен анализ тенденций развития города. Оперативные реакции на этот анализ описаны в предыдущей главе.
Не все знают продолжение широко известного утверждения: «Если вам кажется, что всё хорошо – вы чего-то не заметили». Продолжение такое: «Если вам кажется, что всё плохо – завтра станет еще хуже». Худшее действительно было впереди. Но нужно было заглянуть «за горизонт», чтобы не упустить время.
Группой проектов и программ в то время были сформированы постулаты развития города, во многом остающиеся актуальными по сей день:
1. Наукограды как элитные системы деградируют без внешнего притока способных людей (этот тезис позаимствован у В. А. Лапина, председателя Совета депутатов города Жуковского).
2. Диагноз состояния любого города можно поставить всего по одному критерию: уезжает или приезжает молодежь. Приток способной молодежи в город всегда должен оставаться среди приоритетных целей развития.
3. Нужно сохранить градообразующие предприятия и их научно-технический профиль.
4. Городскую экономику нужно приращивать предприятиями высокотехнологичного бизнеса, проводить диверсификацию экономики города без утраты лица города как территории науки и технологий.
Кроме В. Э. Проха, наиболее заметную поддержку группе развития, в то время оказывали руководители лабораторий ОИЯИ – директор Лаборатории высоких энергий академик Александр Михайлович Балдин, тогда еще не ставший знаменитым академиком директор Лаборатории ядерных реакций Юрий Цолакович Оганесян и директор Лаборатории нейтронной физики профессор Виктор Лазаревич Аксенов.
Вместе с тем, довольно быстро стало понятно, что только в Дубне проблем Дубны не решить. В правительстве Московской области (тогда – в Мособлисполкоме) решений также было не найти – Дубна по существу была городом федерального (союзного) подчинения. Поэтому руководство области развитие Дубны среди своих задач в то время не числило.
В феврале 1991 года на должность курирующего науку зам. председателя правительства РСФСР (председательствовал тогда Иван Степанович Силаев) был назначен петербуржец А. Ф. Каменев. Я позвонил в приемную, попросил о встрече. Услышал ответ в форме вопроса: «Завтра удобно?..» Поехали на встречу вместе с А. С. Щеулиным. Быстро удалось найти общий язык. Александра Федоровича живо интересовали те же вопросы, что и нас: как не только спасти научные и инженерные центры, но и сделать их элементами развития новой экономики. Встречи стали почти регулярными. Можно было позвонить в приемную Александра Федоровича и спросить: «Завтра еду в Москву, в какое время лучше подъехать?»

