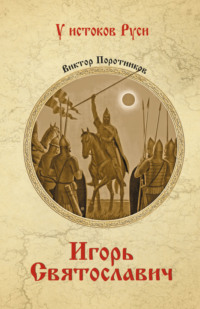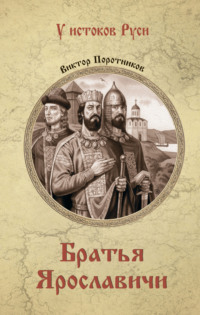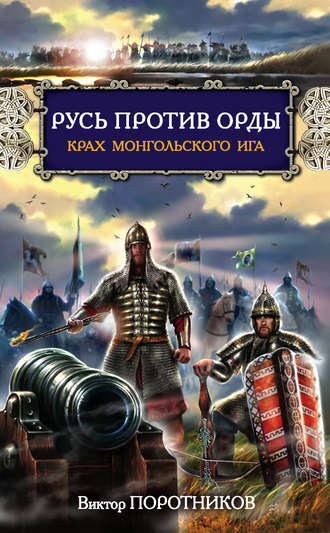
Полная версия
Русь против Орды. Крах монгольского Ига
Под стать неказистой внешности Чичек-хатын был и ее нрав, в котором было столько мстительной злобы и ревнивой подозрительности, что хан Ахмат про себя называл свою ногайскую жену «чудовищем в женском обличье». От частых приступов ярости Чичек-хатын страдали все в ее окружении. Своих рабынь Чичек-хатын избивала собственноручно, доставалось от нее и слугам-мужчинам, которых она могла облить кипятком или вонзить иглу кому-нибудь в лицо.
Чичек-хатын претендовала на то, чтобы быть главной из жен хана Ахмата, видя, что любимой женой ордынского владыки ей не быть никогда. Любимицей Ахмата была половчанка Басти с пышными женственными формами, с обворожительным лицом и с нежным голосом. Главной ханской женой считалась азербайджанка Фирангиз, поскольку она была старше по возрасту всех прочих жен из гарема Ахмата.
Положение нелюбимой жены Ахмата закрепилось за Чичек-хатын еще и по причине ее бесплодия. Лишь на третий год замужества Чичек-хатын кое-как разродилась дочерью, причем сама едва не умерла во время родов. Все последующие беременности Чичек-хатын завершались выкидышами, так как ее постоянно преследовали женские немочи. Выросшая в кочевье среди колдунов и шаманов, Чичек-хатын полагала, что на нее насылают порчу прочие жены Ахмата, желая таким способом извести ее. По этой причине Чичек-хатын постоянно ходила увешанная различными амулетами от сглаза и порчи, а в ее покоях все время находилась шаманка Нансалма, присланная в Сарай ханом Иваком.
Чичек-хатын изводила хана Ахмата постоянными жалобами на своих соседок по гарему, на поваров и лекарей, которые, как она считала, желают ей зла. Хан Ахмат был вынужден терпеть присутствие в своем дворце уродливой и мнительной Чичек-хатын, а также ее братьев, ибо ему была нужна ногайская конница. Ногаев побаивались все оседлые и кочевые татары, зная их жестокость и неприхотливость. Нищие ногаи рыскали по степям, как голодные волки, терпя голод и непогоду. Забираться ради добычи в чужие владения было для ногаев чем-то вроде проявления доблести. Разбить ногаев было так же непросто, как и отыскать ставку их хана в заволжских степях. Ногаи помогли хану Ахмату нанести поражение крымскому хану. Их военную силу хан Ахмат хотел использовать и в грядущей войне с Москвой.
Глава третья
Заботы московского князя
Всеми делами, связанными с государственной изменой, занимался думный боярин Семен Ртищев, человек особо приближенный к великому московскому князю Ивану Васильевичу. У Семена Ртищева повсюду были глаза и уши, а его дознаватели применяли такие изощренные пытки, что могли заставить говорить кого угодно. Московская знать сторонилась Семена Ртищева, за глаза называя его кровавым княжеским палачом. К тому же боярский род Ртищевых имел не московские корни, а издавна жил в Твери. Предки Семена Ртищева перебрались из Твери в Москву при князе Василии Дмитриевиче, сыне Дмитрия Донского.
Иван Васильевич приблизил к себе Семена Ртищева именно потому, что тот был изгоем среди московских бояр. Не связанный ни родством, ни дружбой с имовитыми московскими вельможами, Семен Ртищев никому не делал уступок и поблажек, если дело касалось измены великому князю. Так было и в случае с боярином Федотом Щербатым, уличенным в том, что он тайно сносился с литовцами, имевшими намерение отравить московского князя руками его же приближенных.
Когда служилые люди Семена Ртищева попытались схватить Федота Щербатого, тот оказал яростное сопротивление и был убит. Сыновья боярина Щербатого успели бежать из Москвы в принадлежащую литовцам Вязьму.
Это случилось в ту же пору, когда младшие братья великого князя разругались с ним, уйдя со своими дружинниками и челядью в Великие Луки.
Иван Васильевич в этой связи имел подозрения, что заговорщики бояре Щербатые действовали в Москве скорее по наущению его мятежных братьев, нежели литовцев. Подкрепить эти подозрения было нечем, так как главный заговорщик был убит, а его сыновья бежали в литовские владения.
– Ищи, боярин, разнюхивай, с кем из моего окружения успел сговориться старик Щербатый, кто еще из ближников моих нож на меня точит! – молвил великий князь Семену Ртищеву, встретившись с ним как обычно после утренней молитвы. – Неспроста сыновья Щербатовские так ловко от погони ускользнули. Не иначе, кто-то вовремя предупредил их об опасности. Этот кто-то где-то подле моего трона затаился, как змей подколодный!
– Не сомневайся, государь, – сказал Семен Ртищев, – всех дворовых людишек бояр Щербатых плетью и дыбой испытаю, но верный след отыщу. Всех сообщников Федота Щербатого на чистую воду выведу! Не скрыться злодеям от меня!
– Не скрыться, говоришь, – проворчал великий князь, глянув на боярина Ртищева из-под нахмуренных бровей. – Прежней-то хватки у тебя уже нету, боярин. Татарин Кутеп, главный зачинщик резни, устроенной прямо на торговой площади, тоже сумел сбежать от слуг твоих. Купцы говорят, Кутеп в Орду подался. Знает, собака, что моя рука там его не достанет.
Боярин Ртищев виновато опустил глаза, слов для оправданий у него не было. Что и говорить, прозевал он Кутепа, который натравил крещеных татар на татар-бохмитов, использовав эту кровавую потасовку для сведения счетов со своими недругами из числа знатных татар, поступивших на службу к московскому князю.
Иван Васильевич был долговяз и немного сутул, в минуты гнева он имел привычку размахивать своими длинными сильными руками. Голос у великого князя был грозный, а взгляд пронзительный. В его темных волосах и бороде серебряными нитями поблескивала седина. В эту зиму Ивану Васильевичу исполнилось сорок лет.
Великий князь был одет в длинную горничную рубаху из светло-зеленого шелка, подпоясанную нешироким поясом. Голова его была покрыта небольшой круглой шапочкой, расшитой замысловатыми узорами. На ногах были легкие кожаные башмаки без каблуков.
Переходя от окна к окну, сквозь решетчатые стекла которых был виден теремной двор, мощенный камнем, Иван Васильевич наблюдал, как конюхи и возничие меняют колеса на его крытом возке с резными дверцами. Вследствие частых поездок московского князя по городам и весям колеса на его карете быстро приходили в негодность, разбиваясь на плохих дорогах, коими испокон веку «славилась» Русь.
«Может, отправить Семена Савельича куда-нибудь на воеводство, а на его место другого боярина поставить? – промелькнуло в голове у Ивана Васильевича. – Но опять же кого поставить? Все надежные и смысленые бояре давно при деле, каждый на своем месте. А спесивых тупиц к такой должности лучше не подпускать. Ладно, пусть Семен Савелич и дальше, как ищейка, подле моего трона сидит. Коней на переправе не меняют!»
Дав боярину Ртищеву несколько напутствий и велев поживее вести дознание, Иван Васильевич распрощался с ним до следующего утра с благодушным выражением на лице.
Однако Семен Ртищев слишком хорошо знал своего государя, чтобы не почувствовать его скрытое недовольство, грозящее ему возможной опалой.
Спускаясь вниз по каменным ступеням с верхнего дворцового яруса на нижний и неловко приподнимая длинные полы своего парчового кафтана, боярин Ртищев пребывал в сильнейшем беспокойстве за свое будущее. В случае отставки ему грозила полнейшая нужда, поскольку доходы с его поместья были очень невелики. А ведь у боярина Ртищева имелись две дочери на выданье, которым необходимо собрать богатое приданое, да еще подрастает сынок-недотепа.
При виде боярина Ртищева, сбегающего с дворцового крыльца с мрачным лицом и надвинутой на самые глаза шапке, двое его стремянных, балагуривших с молодым княжеским стражником, вмиг посерьезнели и бросились к своим лошадям у коновязи. Один из них привычным движением помог своему господину вскочить в седло.
– Едем на Мясницкую! Живо! – рявкнул на своих слуг боярин Ртищев, пришпорив коня.
На Мясницкой улице находилась темница, где содержались злодеи и грабители, а также люди, чем-то не угодившие великому князю.
* * *Выпроводив из своих покоев боярина Ртищева, Иван Васильевич с помощью слуг облачился в длинную однорядку из золотистого алтабаса, не имеющую воротника, с застежкой встык, с откидными рукавами и отверстиями для рук под проймами. Еще до завтрака великому князю нужно было побеседовать с ростовским архиепископом Вассианом, который являлся его духовником.
Вассиан без промедления приехал в Москву, едва узнал о мятеже двух младших братьев великого князя. Архиепископ знал, что прежде, чем применить оружие, Иван Васильевич непременно постарается договориться со своими братьями миром. И посредником на этих переговорах предстоит быть ему, архиепископу Вассиану, известному своим красноречием.
Вступив в покои великого князя, владыка Вассиан приготовился к обсуждению условий, на каких Иван Васильевич готов примириться со своими братьями. Однако великий князь заговорил совсем о другом.
– Негоже ты поступаешь, отец мой, – ворчливо промолвил Иван Васильевич после объятий и приветствий с высоким гостем. – Без должного разумения ты подступил к делу наиважнейшему. Я попросил тебя, отче, прислать ко мне самого смышленого из твоих грамотных иноков и послушников, а ты кого выбрал.
– Я же отправил к тебе, княже, самого грамотного из своих писцов, – сказал владыка Вассиан после некоторого замешательства. – Послушник Микифор латынью и греческим владеет, начитан зело, разумен в речах, усидчив в работе. Для летописания именно такой человек и нужен. Чем же тебе не угодил мой грамотей, княже?
– Твой Микифор, отче, летопись пишет не чернилами, а желчью! – сердито ответил Иван Васильевич и постучал длинным указательным пальцем по толстой книге в кожаном переплете, лежащей на столе, укрытом длинным зеленым сукном. – Послушник твой, отче, млад годами, однако ж осмеливается осуждать некоторые из моих деяний и даже выступает с нравоучениями на страницах летописи, уподобляясь Плутарху и Льву Диакону. Я сказал ему, что не его это телячье дело заниматься разбором всего свершенного мною и тем более лепить из меня эдакого злодея! Этот умник вместо признания своих ошибок и смиренного раскаяния вздумал спорить со мной, доказывая свою правоту. – Иван Васильевич резким движением рубанул воздух ребром ладони. – В общем, владыка, упек я твоего грамотея в темницу за его длинный язык и дерзостный ум. Пусть посидит в сырости да мраке, пораскинет мозгами, в чьей власти он находится и кому служить обязан без излишних размышлений.
Владыка Вассиан обеспокоенно заерзал на стуле с высокой спинкой. В голосе его прозвучало недовольство поступком великого князя:
– Сплеча рубишь, княже. Не сознаешь того, что книжник – это ведь не смерд и не холоп. У грамотного человека на всякое событие свой собственный взгляд имеется, ибо многознание сродни мудрости. А всякий мудрец выше людских пороков, так как истина для него важнее.
– Я не отпираюсь от грехов своих, – проговорил Иван Васильевич, присев на стул напротив архиепископа, – но разве я преступаю Божьи заповеди от безрассудства иль корысти какой. Я же о земле Русской радею, хочу все княжества русские в единый кулак собрать! – Иван Васильевич потряс своим большим кулачищем. – Отец мой проявил слабину и жестоко поплатился за это, недруги ослепили его. Причем это были не татары и не литовцы, а свои же русичи. Исходя из отцовского печального опыта, я просто обязан быть жестоким и скорым на расправу.
– Княже, позволь мне прочитать страницы летописи, написанные рукой Микифора, а после дозволь мне побеседовать с ним, – попросил владыка Вассиан. – Под моим руководством послушник Микифор постигал знания из древних летописей и иноземных книг, а посему отчасти и я виноват в его дерзостном вольнодумстве. Я сумею убедить Микифора не смешивать воедино в летописном труде зло обычное и зло, творимое великим князем во благо Руси.
– Конечно, отец мой, – с неким облегчением в голосе промолвил Иван Васильевич, – я передам тебе Московскую летопись для ознакомления. Ежели слова твои вразумят Микифора, владыка, я позволю ему и дальше вести сей летописный свод. Слог у него замечательный и почерк вельми красивый.
Глава четвертая
Узники
С той поры, как на службу к Ивану Васильевичу поступили фряги, каменщики и архитекторы, во главе со знаменитым Аристотелем Фиораванти, облик Москвы стал существенно меняться. На месте древнего белокаменного Успенского собора, построенного еще при Иване Калите и изрядно обветшавшего, был возведен великолепный пятиглавый храм из тесаного камня, также посвященный Успению Пресвятой Богородицы. Строительство длилось пять лет под руководством Аристотеля Фиораванти, который помимо нового Успенского собора за это же время успел построить двухъярусный каменный дом для себя рядом с великокняжеским дворцом и каменные митрополичьи палаты взамен старых деревянных, сгоревших при пожаре.
При Аристотеле Фиораванти центральные улицы и дворы Москвы начали мостить не деревом, а камнем, который подвозили зимним санным путем из каменоломен близ Звенигорода. При Аристотеле же была выстроена каменная великокняжеская темница, поскольку прежняя бревенчатая тоже сильно пострадала от пожара.
Новая темница была построена с размахом, в ее застенках могло вместиться около трехсот узников. Этот обнесенный высоким частоколом мрачный каменный дом с узкими оконцами-бойницами и закругленным главным входом из черного гранита внушал страх живущим по соседству купцам и боярам. По деревянным трубам из лиственницы, проложенным под мостовой, из каменной тюрьмы вместе с нечистотами стекали в крепостной ров воды, окрашенные кровью замученных узников.
Немногие из несчастных, угодившие в руки подручных боярина Ртищева, выходили из великокняжеской темницы живые-здоровые. Кого-то после всех допросов с пристрастием родственники или слуги выносили из застенков на руках, окровавленных и с переломанными костями; кого-то выносили на носилках бездыханными, укрытыми грубым холстом.
Ближайшими помощниками боярина Ртищева были дьяк Михалко Вельяминов и костолом Космыня. При допросах осужденных один задавал вопросы, а другой орудовал плетью и выворачивал суставы.
К ним-то и подступил угрюмый Семен Савелич, прискакав из княжеского дворца в серый тюремный дом.
– Как идет дознание? Что удалось выпытать у челядинцев бояр Щербатых? – подступил боярин к дьяку Михалке.
Тот суетливо рылся в бумажных свитках, отыскивая нужный с показаниями, выбитыми у слуг бояр Щербатых.
– Значит, так, – торопливо заговорил Михалко, глядя в развернутый узкий свиток, – двое холопов Щербатовских испустили дух, не вынеся побоев. Одного холопа пришлось заколоть, когда он попытался задушить Космыню. Еще пятеро пытаны крючьями и раскаленным железом, но ничего стоящего они так и не сказали.
– А челядинок пытали? – грозно спросил боярин Ртищев. И, увидев по лицу дьяка, что до служанок у того руки пока не дошли, властно приказал: – Сегодня же займись челядинками. Уразумел?
– Уразумел, боярин, – закивал головой Михалко. – Сей же час велю Космыне раскалить щипцы на огне и приготовить плети.
Сказав, что вечером заглянет сюда еще, боярин Ртищев покинул великокняжеский застенок.
Дьяк Михалко Вельяминов по своей родне со стороны отца происходил из холопов, служивших боярской семье Вельяминовых. Этот боярский род издавна жил в Москве, пользуясь расположением здешних князей. По обычаю, когда умирал кто-то из бояр, на волю отпускали несколько холопов, давая им фамилию их умершего господина. Таким образом, дед Михалки стал свободным человеком, когда во время мора скончались глава боярского рода Вельяминовых и два его сына.
Дед и отец Михалки продолжали служить боярам Вельяминовым в качестве дьяков, то есть заведовали бумажными канцелярскими делами. Михалко Вельяминов быстро пошел в гору, поступив на службу к великому князю и выгодно женившись на богатой боярской вдове. Заветной мечтой Михалки Вельяминова было скопить достаточно денег, чтобы купить большой земельный надел и перейти в благородное боярское сословие, используя покровительство великого князя. Иван Васильевич способствовал переходу своих служилых безродных людей в сословие бояр, понимая, что эти доморощенные бояре будут преданы ему в отличие от спесивых и обидчивых родовитых вельмож.
Внешне Михалко был невысок и крепок, как гриб-боровик. Глядя на его улыбчивое круглое лицо, трудно было поверить, что этот человек может преспокойно наблюдать за истязаниями людей и даже придумывать какие-то более изощренные пытки. В свои тридцать с небольшим Михалко Вельяминов уже успел многое повидать и понять в падкой на пороки человеческой породе. В нем почти не было жалости к преступникам и недругам великого князя, зато алчность цвела пышным цветом в его загрубевшей от вида крови душе.
Рядом с дьяком Михалкой трудился в поте лица костолом Космыня.
С младых лет Космыня носил длинные волосы-космы, за что и получил свое прозвище. Настоящего имени Космыни никто не знал, человек он был приблудный и в Москве обосновался лишь несколько лет тому назад. Космыня был немного моложе Михалки Вельяминова. Он был высокого и крепкого телосложения, на его неулыбчивом лице с рыжими усами и бородкой прежде всего выделялся крупный нос с широкими ноздрями. Из-за низких бровей казалось, что у Космыни подозрительный взгляд исподлобья. К тому же у него были узкие темные очи, поэтому создавалось впечатление, будто Космыня постоянно прищуривается.
Тюремный покой, где дьяк Михалко и костолом Космыня проводили дознание, представлял собой довольно просторное помещение с высоким потолком и почерневшими закопченными стенами без окон. Здесь имелся большой очаг с вытяжным отверстием в потолке для выхода дыма. Огонь в очаге Космыня поддерживал, подбрасывая туда древесный уголь, который, сгорая, давал сильный жар. В пламени очага Космыня накалял железные щипцы, иглы и крючья, которыми затем пытал узников.
В середине помещения, освещаемого факелами и огнем очага, была установлена дыба – приспособление для выворачивания суставов. Тут же стояла бочка с водой, с помощью которой пытаемого приводили в чувство, если несчастный вдруг терял сознание. Этой же водой Космыня ополаскивал свои загрубевшие руки, смывая с них кровь своих жертв.
Обычно допрос начинался с запугиваний, когда узнику показывали орудия пыток и предлагали ему выложить все начистоту. Служа уже почти десять лет тюремным дознавателем, дьяк Михалко научился неплохо разбираться в людях. Своим наметанным взглядом он мог сразу определить, кого из заключенных достаточно припугнуть, чтобы выведать у него всю подноготную, а с кем придется повозиться, используя плеть или дыбу.
При допросе женщин идти на крайности чаще всего не приходилось, поскольку один вид пыточного застенка и набора инструментов, причиняющих жуткую боль, развязывал язык даже самым упрямым из них. Так было и на этот раз.
Челядинок из поместья бояр Щербатых тюремные служки приводили на допрос по одной, предварительно раздевая каждую догола. Таково было тюремное правило, так как применять пытки к обнаженному человеку было сподручнее.
Сначала дьяк Михалко допросил повариху и ее помощницу. Обе были так напуганы, что со слезами на глазах без колебаний отвечали на все вопросы. Однако ничего стоящего они поведать не могли, поскольку не имели доступа в личные боярские покои.
Сенные девушки, занимавшиеся уборкой боярского терема и обитавшие в сенях, неотапливаемых комнатах, тоже ничем не порадовали дотошного Михалку, даже внешне все четыре холопки выглядели весьма непривлекательно.
Наконец, служки привели на дознание статную черноволосую черноокую красавицу лет двадцати. Ее белокожая прекрасно сложенная фигура, лишенная одежд, была подобна дивной мраморной статуе, вдруг очутившейся в мрачном задымленном застенке, где повсюду виднелись пятна засохшей крови. Служки с поклоном удалились, оставив нагую красавицу стоять перед столом, за которым восседал дьяк Михалко.
– Как тебя зовут? – строгим голосом спросил Михалко, с удовольствием разглядывая прекрасную узницу.
– Матреной кличут, – негромко ответила девушка, стыдливо прикрывая руками свою роскошную грудь.
– Кем ты приходишься боярам Щербатым? – вновь спросил Михалко, что-то быстро записывая на бумажный свиток гусиным пером.
– Никто я им, – помедлив, промолвила Матрена. – Я – дочь сельского старосты. Боярин Щербатый силком увез меня в свое поместье, сделав своей наложницей. Через полгода старик Щербатый уступил меня своему старшему сыну, от которого я забеременела, но дите так и не доносила, выкидыш у меня случился.
Матрена печально вздохнула и медленно опустила руки, видя, что допрашивающий ее дьяк больше пишет, нежели взирает на нее.
– Дальше рассказывай, голубушка, – мягко, почти вкрадчиво проговорил Михалко, макая перо в чернильницу и продолжая что-то писать.
– О чем рассказывать-то? – с легким недоумением поинтересовалась Матрена, зябко поеживаясь и переступая босыми ногами на холодном каменном полу.
– Все, что знаешь про бояр Щербатых, – пояснил Михалко, улыбнувшись узнице. – Ты же почти год прожила у них в поместье, наверняка видела, кто к ним в гости наведывается, слышала их разговоры и пересуды… Кстати, другие наложницы у Щербатых имелись?
– У младшего боярича была наложница по имени Ольга, – промолвила Матрена, оглядывая потолок и стены пыточного покоя. При этом она была на удивление спокойна. – Я видела ее раза два, потом Ольгу увезли в Москву. Больше я ее не видела.
– Бывала ли ты, голубушка, в московском тереме бояр Щербатых? – поинтересовался Михалко, не глядя на узницу и продолжая водить пером по бумаге.
– Бывала несколько раз, – ответила Матрена и слегка вздрогнула, услышав, как чихнул у нее за спиной Космыня.
Космыня лежал в уголке на широкой скамье в ожидании, когда дьяку Михалке понадобится его помощь.
– Так-так! – приободрившись, обронил Михалко. – Выкладывай, милая, кого из гостей видела в московском доме бояр Щербатых, какие разговоры слышала.
– Никаких разговоров я не слышала, – с чуть заметным раздражением проговорила Матрена, – а гостей к боярам Щербатым много приходило, но я к ним не приглядывалась. И за столом с ними не сидела. Я же наложница, а не боярская дочь. Я по ночам в постели согревала то одного сынка старика Щербатого, то другого.
– Не отнекивайся, красавица, – сказал Михалко. – Лучше пораскинь умишком и вспомни что-нибудь. Бояре Щербатые с литовцами тайно переведывались, злой умысел имели против великого князя. Федот Щербатый ныне мертв, а сыновья его бежали к литовцам. Однако сообщники ихние здесь, в Москве, затаились. – Михалко переставил горящий масляный светильник от края стола на середину. Он ободряюще подмигнул Матрене: – Так что, голубушка, поднапрягись и припомни, кто из бояр московских чаще всего к Щербатым наведывался, какие речи вели меж собой Федот Щербатый и его сыновья. В этом деле любая мелочь важна!
– И рада бы тебе помочь, мил-человек, да не могу, – вздохнула Матрена, обняв себя за плечи, чтобы унять колотившую ее дрожь. – Никого из бояр московских я не знаю ни по лицам, ни по именам. Приходили имовитые люди в терем к моим господам, отрицать этого не стану, но я при этих встречах не присутствовала. Ни о чем злодейском бояре Щербатые при мне не совещались. Если бы было такое, то я бы это запомнила.
– Может, во хмелю Федот Щербатый иль сыны его ругали великого князя, не припоминаешь? – Михалко сверлил Матрену пристальным взглядом, словно силился по выражению ее лица определить, лжет она или говорит правду.
– Во хмелю-то ими много чего было говорено, господине, – ответила Матрена, не пряча глаз. – Кого токмо они не ругали во хмелю-то, но про великого князя никто из них ни разу не заикнулся. При мне, во всяком случае.
Михалко раздраженным жестом воткнул гусиное перо себе за ухо и встал из-за стола.
– Не складно лжешь, красавица, – сказал он, подходя к Матрене. – Чувствую, таишь ты правду от меня. Придется, милая, передать тебя в руки костолому, а уж он-то церемониться с тобой не будет. Эй, Космыня! – Михалко обернулся к своему помощнику, звонко щелкнув пальцами. – Займись-ка красавицей!
Космыня зашлепал стоптанными сапогами из своего угла к Матрене и стоящему рядом с нею дьяку Михалке.
– Жаль такую паву увечить, – заметил Космыня, легонько проведя своей огрубевшей ладонью по гибкой спине юной узницы и по ее пышным белым ягодицам. – Может и впрямь она ничего не знает, а?
– Ты повеление боярина Ртищева слышал? – сердито прошипел Михалко прямо в лицо Космыне. – Твоего мнения тут никто не спрашивает, увалень. Делай свое дело!
– Я-то свое дело знаю, а вот знаешь ли ты свое, приятель? – огрызнулся Космыня, ухватив Матрену за длинную черную косу. – Сам невольниц разговорить не можешь, хотя они и не запираются. Думаешь, под кнутом она что-то вспомнит? – Космыня сердито кивнул на Матрену. – Да у нее от боли память и вовсе пропадет!
– А ты не с кнута начинай, живодер хренов! – рявкнул Михалко, вновь усаживаясь за стол. – Не мне же тебя учить! Этой паве нужно до вечера язык развязать и память прояснить. А не то боярин Ртищев нам с тобой спуску не даст!