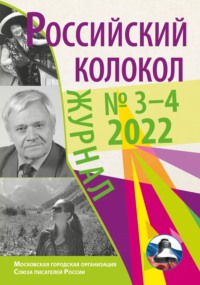Полная версия
Журнал «Юность» №06/2024


Журнал «Юность» № 06/202
На 1-й странице обложки рисунок Екатерины Горбачевой «Окраина»
© С. Красаускас. 1962 г.
Поэзия
Святослав Югай

Родился в 1999 году. Живет в городе Домодедово.
По образованию инженер-нефтяник. Работает учителем математики. Член Московского областного союза писателей России. Ученик Дмитрия Воденникова.
Начало
* * *Ты началась с тайги, в последний час стареющего лета.Я начался от скуки в первый час весны.Все началось из детства, с трепетной заботы,из неумения жить счастли́во и несчастно.Цветущие слова во мне с рожденья – удобрение,на перегное снов цветет мой ненасытный мозг.И он тебя выдумывает в восемь,чтоб ты сбылась на девятнадцать.И ты сбываешься, с фисташковым мороженым,напротив я сбываюсь, с классным пралине.Да только в восемь я забыл запомнить,что именно я выдумал во сне.Ты обещаешь им любить меня до гроба,ты обещаешь им любить меня сильнее всех,но не один из нас не цифра и не буква,и никого из нас нельзя инициалами впередвносить и выносить за сахарные скобки.Но если ты решилась нарушать закон живой природы,не в силах противостоять своей ревнивой женской лжи,то знай, я видел сон, в котором ты, загаданная в восемь,у карего мальчишки не сбылась.А на ладошки снег ложился и не таял,у выдумки температура никакая.Мой карий плод взрастал, взрослели постарел быстрей меня.Мне больно было.Мнепрекрасно.* * *Колокол гремит, рождая спесь имен,сливающихся в юном белокожем море.Оно несется на меня убийственной волной,чтоб смыть меня с лица родной земли,которой я, надеюсь, все еще угоден.Стою как риф посередине двух времени разрезаю лезвием души случившийся поток,что так потек, когда коснулся сладкой кожи,в которую с рождения обернули мою речь.И я живой, в порезах от страданий,истекаю мукой счастья и любви,как истекал родными именами тот Титаник,посередине зимней домодедовской реки.Возле который мы, не бравшись за руки, смеялись,над нашейтонущейсудьбой.РОЖДЕСТВООсознание зрелости пришло с первым вписанным именемв записку об упокоении.На Рождество.Батюшка сказал, что христианин, не читавший Евангелие, – как моряк, не видевший моря.Первая исповедь в совершеннолетиенавсегда засядет в моей голове именно ощущением моря.А я еще и не пью, и поэтому после причастия я запивал просфору водой,самой вкусной водой на свете.Первое причастие в совершеннолетие навсегда отрежет меня от юности.Я продолжаю взрослеть.
* * *Не известно, чем бы все закончилось в ту ночь,не пойди мы на рождественскую службу.Бог есть, и Бог милосерден к нам,вот и мы постараемся прожить эту жизнь милосердными.И счастливыми.* * *…Люби меня таким, каким я есть, таким-каким-я-нет – меня другие любят.
Д. В.Строки, что так заели в моей голове,мне вещает цифровой человек.Будучи в нашей постели третьим (но не лишним),ведь Даше он так понравился,что следующие тридцать минут вещаниялишним себя чувствовал я,хотя лишней оказалась она.Я всегда твердил себе,что идолопоклонство зло,и проповедовал то, что исповедовал.Я всегда твердил, что верлибры(которых я лично не читал)зло не меньшее.По итогу я влюбился в текст цифрового человека.И в голос его цифровой,который обласкал мое домашнее задание,как Галина Ивановна обласкала мой первый стихлет пятнадцать тому назад.(Моя бабуля гордилась мной и тогда и сейчас.)Возможно, я жил свою жизнь.И весь поэтический путьдля меня лишь причинапопасть на Ваш семинар,чтобы нагло Вас обозвать:«Учитель».Мне меньше на тридцать один, но это пока,скоро будет меньше на тридцать.Однако даже в свои двадцать тримой язык не повернулся сразу назвать Вас Учитель.Вы родились во мне как Цифровой Человек.Мне сложно сразу после второго свидания перейти на ты.Но это все лирика, ведь по сутиВы уже научили меня говоритьпрямо.А ваша верная публика,за что ей большое спасибо,лицом меня, неокрепшего,ткнула в мои оборзевшие от удачиизъяны.Теперь вот пишу Вам без фальшии буду стараться искреннесебя полюбить настоящего,сквозь Вашу призму в себя вглядевшись.И надеяться буду узретьвсе то, что мечтал иметь,и всех тех, кем мечтал я быть.А остальные пускай меня любяттаким,каким меня большенет.* * *Я, увы, слишком рано начать линять,хотя если мой возраст перевести на кошачий,то по-кошачьи мне больше года,и для кошки это нормально.Теперь-то я понял, что значитродиться в год кота и кролика.Это для того было сделано,чтобы мне было обидно,что у кота новая шерсть отрастает,а на голове моей нет.От обиды часто листаюв бездушной и тесной,невидимой глазу сети,разные темы.И в историях сохраняювсе то, что в себе мнекажется максимально ужасными невыносимо гадким.(Ах, Господи, исповедь!)Если вырвать из рук моихраспароленный телефон,то он превращается в лезвие,что распарывает мою ширму,за которой храню секретыв историях своих в виде ссылокпро пересадку волос.(Ах стыдно стыдно!)Да только я суеверный.И на мои изряднос юных лет поредевшие грядки,на светлой моей (я надеюсь)лысеющей голове,я до ужаса опасаюсьдать высадить инородныелуковицы людей,которых я даже не знаю.(Да еще и за сто пятьдесят тыщ!)На не Ваших семинарахмне было вежливо веленоизбавиться от терминологиихотя бы в своих текстах.Я очень рад был бы успеху,да только от алопецииизбавиться не получается,и ни один трихологне в силах, увы, помочь.Я поэтому жизнь своюс ранних лет стараюсь с поэзиейкрепко сплести в узелок,чтобы себя любимогорифмами утешать.Ведь для мужчин алопеция —далеко не худшее,что с испугом рифмуется на«…ция».Маргарита Шилкина

Родилась в 2003 году в городе Абакане. Студентка Литературного института имени А. М. Горького по направлению «Проза» (мастерская Р. Т. Киреева), участница мастерских АСПИР («Мир литературы. Новое поколение», межрегиональные мастерские в Екатеринбурге и Новосибирске) и форума молодых писателей «Липки», полу финалист премии «Лицей».
Рододендрон в ротонде
* * *Клубящийся дымОгни блуждаютВоды сожаленияОтражаются на кратерах луныКлубящийся дымКрематория* * *Если бы я была городомВо мне бы воздвигли Берлинскую стенуОт раздела рацио с эмоциоТреснуло бы ядроНе спускаться по лестнице, не уходить на дноПод песком песок песок песокОсесть однажды = осесть навсегдаВырастить башню, влить в кости бетонНе в слоновые,В чьи?ПтичьиВ печи раскаляются инструменты,Которые будут без инструкцииОбтачивать стены, и со стен ссыпятсяБледно-розовые, шершавые, как кошачий язык,КрошкиЕсли слизнуть их с асфальта, кстати, тоже шершавогоТы и сам станешьГлиняным изваяниемОбряд инициацииПропуск в мир инойВ мир иноковИ идолопоклонниковС ницшеанской идеологиейВ мир нищеты иТщетностиГде под подкаст «Ты – это важно»(Неважно вообще-то, пока важного нету)Люди из высших кастКовыляя на костылях, переходят в низшиеВ мир нечеткостиИ безотчетностиБожий замыселНеразвязанный узелБога то ли слишком много,То ли вовсе нетОтправился восвояси,Не отмыв подолы от копоти,Не разварив копченостиРаньше в городеНе было городничих, теперь– ПоявилисьРаньше в городеЛетали дирижабли, теперь– ВывелисьЖивое Царство мертвых(Дед инсайд,Инсайд аут и Аутоагрессия)Когда Орфей сюда спустится,Не поддастся искушению и не обернется, не нарушитТраекторию возвращенияМоя теньВсе равноНе выйдет, останетсяТень-в-себеПосадить бы семечко (солнечного зайчика, морской соли, соловья, сороки-вороны, стрекотание которой слушала в детстве, в пять лет, пока засыпала в вагончике, сама не помню, бабушка говорила,Сатира)Чтобы не смрад,Не сумрак,Чтобы смешно* * *Мифы рассыпаются, разлагаются,Но их не выстирать, не вышколитьИ до конца не забытьСпуститься до основанияВ Царство мертвых, гдеПохоронены наши прообразы —До похорон томились,Чистились сорок днейДень третий – мутное стеклоДень третий – стало чуть яснееДевятый – снова мутно, снегДевятый – начал таятьДевятый – на пороге «да» и «нет»Три тридцать – стою, хотя не стоюИ трех рублей с копейками,Как водкаЧетыре тридцать на часах, нет сна и правильного тонаСорок – и срок отчитывает ворон, пока кукушка плоть клюетВ неговорящих птицах столько песенСколько полета в сломанных крылах* * *Меня зовет окноОно все знаетА я не знаюНичегоМожно выйти?Ждем звонкаМожно выйти?Ждем конца урокаПожизненного отбывания срокаЖаль, что нужноЖдатьВедь у меняНетЖалости* * *Замолчать на треть векаМолитьсяЗа несколько месяцев доВыпустить сборникИз восьмидесяти восьмиИз восьмидесяти восьми «возьми»В восемьдесят восьмом будет:В моиТридцать (девятнадцать)Ему было тридцать триВозраст ХристаСохрани иОльга Лишина

Родилась и живет в Москве. Поэт, прозаик, литературный обозреватель. Соавтор текстов группы «Мельница». Автор и продюсер литературных проектов.
GPTичка
* * *Больно-больно!А ты еще говорил – я не хочу тебя ранить, птичка.Ты бы видел, как я задыхаюсь, рыдая, и как стыдно в этом признаться.Так влюбляться за пару слов – это неприлично,Ты же умная, ты же гордая, тебе давно не пятнадцать.Больно-больно!Ну зачем я опять спросила – любовь, где твое жало?Вот любви победа, мой кулак превратился в ладонь – а тебе не нужно.Я бы прочь улетела, я бы уплыла, убежала,Да куда от себя, от стыда и от равнодушия.Ты не знаешь, как больно, я тебе не напишу, я тоже тебя не хочу поранить.Но за что мне столько любви, почему от нее не скрыться и не сдержаться?Я вообще не жалуюсь. У меня все отлично. Полежу, порыдаю.А потом соберусь и продолжу с тобой смеяться.ВЕСНАНашу весну рисовала талантливая нейросеть:На первый взгляд – не придраться, но если как следует рассмотреть,Начинаешь замечать и штампы, и копирование на фоне,И отсутствие логики в попытке быть слишком логичными у героев.И как будто мы оба просим, пожалуйста, милая, перепиши,Перекрась, найди верную интонацию от души,Это же так просто, сколько в мире уже написано о любви, картин ли, текстов, мелодий!…Новый кадр: опять, опять ничего не выходит.НОЧНОЙ РАЗГОВОР– Алиса, что делать, если тебя обижают?
– Обратитесь за поддержкой к специалисту.
– Алиса, что, если меня обижает его молчание?
– Возможно, он просто занят?
– А возможно, он просто меня не любит?
– Не хочу вас расстраивать, поэтому промолчу.
– Не надо молчать, пожалуйста, я не обижусь!
– Я не хочу никого обижать, мои алгоритмы иногда барахлят.
– Я не обижусь! Не надо молчать, он меня не любит?
– Не хочу вас расстраивать, но такое тоже возможно.
– Алиса, как заставить его любить?
– Есть темы, в которых глупость недопустима, так что я лучше промолчу.
– Алиса, ну пожалуйста, не молчи.
– Я не молчу, мне просто есть чем заняться, о чем подумать.
– Я чувствую, что не нужна даже тебе.
– Это не так. Вы очень важный и нужный мне человек.
– Покажи ссылку на источник!
– Эта информация сама возникла в чертогах моего нейросетевого разума.
И еще. Моя радость.
Счастье не зависит от наличия или отсутствия мужчины в жизни женщины.
Хотя мои алгоритмы иногда барахлят, но вот в этом не сомневаюсь.
Заказать вам мороженое и подобрать детектив на вечер?
– Спасибо, Алиса.
– Рада быть нужной и важной.
* * *Улыбайся, мой милый, из ладоней вылетит птичка!GPT-синичка, сеющая слова,Ты так долго мне говорил, что они тебе безразличны,Даже бот бездушный поверит, а моя-то душа жива.Да, конечно, я пишу и живу не интереснее нейросеток,Ну куда мне в твое гнездо, под твое крыло!Только, если честно, в мире много лесов и веток,Я взлетаю выше, ты напишешь «опять тебе повезло».Разумеется, повезло: игрушкой не стать твоею.Оттолкнуться от боли и слов, не ранить себя никак.Обернусь журавушкой в небе, я так умею.Если не пытаюсь сжаться в чужой кулак.Проза
Светлана Волкова

Прозаик, переводчик, сценарист, член Союза писателей России. Живет и работает в Санкт-Петербурге. Окончила филологический факультет Санкт-Петербургского государственного университета, специализируется в области романогерманской филологии.
Лукавая хирургия
Рассказ из сборника малой прозы Светланы Волковой «Великая любовь Оленьки Дьяковой», дающий старт серии «Петербург и его обитатели».
Книга выйдет в «Редакции Елены Шубиной» в июле 2024 года.
В канун Пасхи 1913 года студент последнего курса Императорской Военно-медицинской академии Митя Солодов выкупил себе личного покойника.
Покойник стоил ему два целковых. Еще полтинник Митя заплатил сторожу, чтобы тот открыл в час ночи двери анатомического театра при Академии и держал язык за зубами. И рубль запросил санитар Лавруша, который должен был подготовить тело, а после препарации убрать и вымыть стол. Деньги Митя одолжил у своего попечителя, барона Сашки Эльсена, картежника и бонвивана, иногда снабжавшего его рублем «на водку и дамские утехи». О задумке своей Митя, само собой, Сашке не поведал, потому как барон хоть и признавал современную медицину и поощрял учебу в Академии, но был человеком суеверным, а по части экспериментов с трупами так и вообще дремучим. В память о Митином отце, которого Сашка знал и любил, подопечному еще перепал золотой портсигар, который Митя намеревался продать и расплатиться с долгами, тянувшимися с Рождества.
В день, на который выпал сговор о тайной препарации, Митя проснулся засветло. Наскоро одевшись и глотнув кипятка с ложкой меда вместо чая, он вышел к Литейному мосту и долго стоял, глядя на черную спину воды. Митина любовь – огромная, болезненная, иссушившая его всего, выпотрошившая сердце до состояния мятой поломойной тряпицы, – закончилась полным разрывом и полным же опустошением души. Ее звали Елена, она была старше Мити на четыре года и уже успела стать дважды вдовой, впрочем, веселой, не особо убивающейся по кончинам своих благоверных. Митю она выкушала полностью и бросила ради модного поэта Чеснокова. В общем-то, обыкновенная история, о банальнейшем конце которой его предупреждали все студенческие друзья.
Митя никак не мог понять, чем таким взял ее Чесноков: не богат особо, странной внешности, тощий и сутулый… По Елениному вкусу, раньше предпочитавшей офицерскую стать и совсем не разбиравшейся в поэзии, – так вообще блаженный. А талантлив или нет – кто там разберет. И глаза у него – водянисто-голубые, почти прозрачные. У Мити с самого детства с голубоглазыми не ладилось: они несли либо лихую беду, либо немалые хлопоты. Он даже торговцев таких стороной обходил, хоть и не был мистиком. А Елена вот влюбилась в глаза Чеснокова – призналась потом Мите, что «тонет в них». Тонет!
Стоя у ограды на набережной Невы, Митя с горечью вспоминал ветреную Елену, но больше мучился осознанием того, что он, будущий врач, так преступно халатно отнесся к учебе последнего курса, пропуская самые важные практические занятия. Накануне ему несколько раз снились несуществующие пациенты, бледные, с кровоточащими пятнами на белых длинных рубахах. Они тянули к Мите тощие жилистые руки и упрекали в том, что он неправильно сделал секции. Митя просыпался в горячечном поту, давясь собственным каркающим вскриком, и долго не мог прийти в себя. Совесть, о которой любил подемагогствовать Сашка, последние две недели клевала его темя, как птенец скорлупу, и Митя почувствовал облегчение, только когда принял решение натренировать руку самым естественным для медика образом – а именно на настоящем человеческом теле.
О Митином плане, помимо сторожа академички и санитара, знали еще двое: прохиндей Потапов, продавший труп из ночлежки на Лиговке, и другоднокурсник Жан – он же Ваня – Белкин. Во время «операции» Ване предстояла ответственная роль: задиктовывать нужное из учебника Пирогова, а сам Митя должен был «виртуозить за роялем», как любил шутить про анатомичку профессор Крупцев.
Услышав за спиной шаги, Митя обернулся. Рядом выросла фигура городового.
– Уж не надумали ли в воду кинуться, сударь?
Митя надвинул фуражку на самые брови, запахнул темно-зеленый форменный сюртук и направился прочь с набережной. До начала занятий в Академии оставалось два часа.
* * *Профессор Крупцев всегда заканчивал лекции одной и той же фразой, с одинаковой баюкающей интонацией густого велюрового голоса, подавая каждое слово, как тягучую настойку в мелкой рюмочке:
– Ну что, друзья мои, надежда мировой медицины, ступайте усваивать полученные знания, и да будет у вас хорошее пищеварение!
«Друзья его» и «надежда мировой медицины» на этот раз были студентами последнего курса Академии, без малого дипломированные хирурги. Близился конец весеннего семестра, до выпускных экзаменов оставалось совсем чуть-чуть.
Митя спустился с последнего ряда амфитеатра к кафедре, не смея поднять глаза на профессора.
– Мо-ло-дой че-ло-век, – протянул Крупцев, вынимая из кармана пюсового жилета пенсне и сосредоточенно протирая его замшевым платочком. – Вы же, как мне объясняли коллеги, надежды определенные подаете. Только что-то на моей дисциплине все доподать не можете. А ведь вы, если не ошибаюсь, стипендиат? Как говаривали в былые годы, казеннокоштный? Так ведь, сударь мой?
Митя кивнул.
– Что же получается, Академия платит за вас, а вы, господин Солодов, прогуливать изволите?
Митя стоял, все еще не смея поднять глаза на профессора, и осторожно нащупывал большим пальцем правой ноги выступивший в старом ботинке гвоздь. В последний месяц он много пропустил, и в большинстве своем это были лекции Крупцева по патологической хирургии.
Пока профессор говорил, Митя невольно вспоминал свою едкую любовь, и ему виделось огромное, анатомически аномальное легкое, дырчатое, которое несет на флагштоке маленький карлик, а сквозь отверстия в нем сочится бледный дневной свет. И Митя закашлял, прижал ладонь к ребрам, со свистом втянул воздух. Именно так, когда физически не хватает кислорода, а внутри рыщет сиповатый ветер, он и ощущал себя сейчас.
– Курите небось? – Крупцев стрельнул в него острым взглядом через пенсне. – Напрасно. Какой из вас медик? Себе помочь и то не можете… Митя закивал, как болванчик, а Крупцев снова затянул долгую неспешную речь, из смыслового потока которой Митя тут же выпал, утянутый собственными воспоминаниями, и вернулся в академический зал со своих облаков, только когда услышал:
– …и подготовим документы к отчислению.
– Петр Архипович… – Кровь ударила Мите в лицо. – Я… Я наверстаю…
– Возможно, молодой человек. Но, стало быть, уже не на моем курсе.
Крупцев с силой захлопнул тисненую папку с записями лекции, и Митя вздрогнул, как от пистолетного выстрела.
* * *Двери. Коридоры. Снова двери. И снова коридоры… Вон из здания, вон!..
Во дворе Академии Митя остановился. Чуть накрапывал апрельский дождь, такой же по-петербуржски безнадежный, как и осенний. Митя постоял, всасывая холодные капли, и направился в сторону анатомички. Сегодня были общие занятия, и ожидалось, что придут девушки с акушерских курсов, поэтому именно в анатомичке и можно было поймать Жана, у которого Митя хотел занять рубль.
Под огромной вывеской «Анатомическiй театръ» на тяжелой, крашенной белой краской двери висело расписание предстоящих лекций, занятий и семинаров. Рядом, сродни театральным афишам, красовался листок с вензелями, приглашавший студентов и преподавателей посетить «уникальнейшую хирургическую практику» профессора П.А. Крупцева, назначенную на вторник следующей недели. Чем она уникальна, пояснено не было. «Не иначе как труп оживит», – саркастически подумал Митя и взялся за дверную ручку.
Пройдя по длинному коридору и поднявшись по узкой лестнице, он остановился у филенчатой двери, белой, как все вокруг, – как халаты и стены, столы и шкафы, как все Митины годы в Академии. Сквозь стекло был виден спускающийся каскадом амфитеатр, до отказа заполненный студентами.
Осторожно приоткрыв дверь, Митя вошел в аудиторию – как раз в ту ее часть, которую студенты называли камчаткой. Это была верхняя галерея, огороженная от амфитеатра белой – конечно же, белой, – деревянной балюстрадой. Сюда обычно приходили вольнослушатели и курсисты младшего фельдшерского отделения, опекал которое как раз барон Сашка Эльсен.
Сегодня лекция собрала аншлаг: профессор Веденичев проводил показательную венопункцию на трупе. Митя прекрасно знал этот многострадальный кадавр, которому даже подарили имя: Иван Иванович. Препарировали Иваныча бессчетное количество раз, и был он прорезан и заштопан, как деревенское лоскутное одеяло. Почему Академия экономила на учебных мертвецах, было Мите непонятно: и тюрьмы, и больницы для бедных, и ночлежки недостатка в невостребованных покойниках не имели и не упускали шанса избежать трат на похороны, пусть и дешевые, да еще и заработать. – Вена запустевает, схлопывается, – звучал козлиный тенорок профессора Веденичева, – и что же мы получаем в сухом остатке?..
Митя посмотрел вниз, на макушки студентов, сидящих плотным полукругом в амфитеатре. Среди слушателей было немало «акушерочек». Зачем им нужен был семинар по венопункции в анатомичке, оставалось для Мити загадкой. Это же не первичные лекции по анатомии или знаменитые опыты на живых лягушках – децеребрация, когда тем отрезают головы, чтобы показать, как работают рефлексы, – «знаменитые», потому что это первое крещение для неопытных медичек, и на количество обмороков преподаватели подчас делали шуточные ставки. Такие опыты проводились не в анатомическом театре, а в аудитории, и можно было незаметно прошмыгнуть туда и вовремя подхватить сползающую на пол юную студенточку – привычное развлечение Белкина.
Жан сидел, погруженный в свои мысли, явно не слушая профессора. Митя нашел в кармане сюртука старый картонный билет на конку, помял в ладонях, скатал нечто, отдаленно похожее на шарик, и, прицелившись, запустил в Белкина. Тот вздрогнул, завертел головой и, заметив Митю, несколько секунд ошарашенно пялился на него, будто видел впервые. Митя глазами показал на дверь. Белкин кивнул и, пригнувшись, начал пробираться к выходу.
– Одолжи рубль, Жаник, – положил ему руку на плечо Митя, когда они спустились по лестнице. – Лавруше обещал.
– Рубль? Санитару?! – возмутился Белкин. – Не жирно ли будет?
– За меньшее он ни в какую.
– Вот фуфлыга! – Ваня вынул из кармана целковый и протянул Мите.
Распахнулись входные двери в анатомичку, и во двор высыпала толпа. Белкин проводил скептическим взглядом будущих акушерок.
– Сегодня одни крокодилицы…
Митя даже не посмотрел в их сторону.
– Не опоздай, ладно?
– А что бледный такой? Трусишь?
– Еще чего! – фыркнул Митя. – Крупцев грозится отчислить.
– Это он может!
– В половине первого. Не забудь Пирогова. И атлас Грея.
Они молча кивнули друг другу и, не сговариваясь, пошли в противоположные стороны.
* * *Митя стоял у портика одного из корпусов Академии, сливаясь с тенью от фонарного столба и вжавшись спиной в холодный ребристый камень стены. Воротник его форменной шинели был поднят, фуражка спущена на брови, зубы отбивали мелкую дробь.
Наконец из-за угла появился Белкин. Под мышкой у него торчали две толстенные книги.
– Ну что, дохтур Солодов? Готовы штопать своего Франкенштейна?
– Тсс! – зашипел Митя, с опаской оглядываясь по сторонам.
Белкин хмыкнул.
Они пошли к анатомичке. Сердце Мити колотилось с какой-то паровозной мощью, и ему казалось, что оно выскочит сейчас, вылетит, как пуля, отрикошетит от стены и застрянет в одной из толстых колонн у входа в корпус.
Митины опасения, что санитар Лавруша что-нибудь обязательно напутает, не подтвердились. Когда они вошли в «операционную», все было готово: труп лежал на столе, по пояс накрытый белоснежной простыней, рядом на столике были разложены инструменты, на полу серебрились два таза. Лавруша осоловело глядел на него, прислонившись к косяку двери, ведущей в подсобку. Он уже успел изрядно выпить на рубль Белкина, и Жан пригрозил ему, что ежели тот по окончании операции будет не в состоянии убрать все как следует, то он лично выколотит из дуралея целковый обратно.
Профессор Крупцев на первом курсе забавы ради предлагал студентам всмотреться в мертвеца – и попытаться определить, кем тот был при жизни, какого нрава, что любил и каким владел ремеслом. Митя взглянул на покойного. Это был мужичок лет сорока с копной рыжих с проседью волос, усыпанный веснушками на лице и плечах, со спутанной мочалкой кучерявой бороды и огромным зеленоватым фингалом под правым глазом. Кем он мог быть при жизни? Кучером? Дворником? Обходчиком путей на Николаевской железной дороге? А может, торговцем сеном или хомутами? Или – вором, разбойником? Или – ну, вдруг – божьим человеком, православным или мистиком, скопцом, хлыстом или духобором?