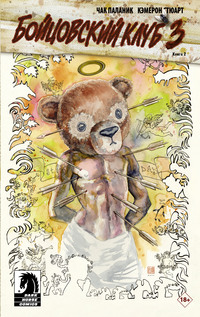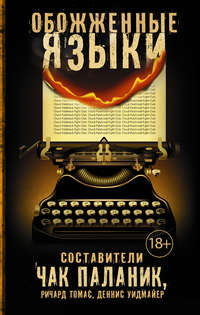Полная версия
Проклятые
Точно как те наказанные ученики Шермерской старшей школы в классическом фильме Джона Хьюза «Клуб “Завтрак”», я пишу сочинение в тысячу слов на тему «Кто я такая?»
Да, я знаю слово «конструкт». Поставьте себя на мое место: я заперта в грязной клетке в аду, мне тринадцать, я обречена навсегда оставаться тринадцатилетней, но все-таки не лишена самосознания.
Больше всего меня бесит, как моя мама несла пургу о Матери-Земле Гайе в интервью для журнала «Вэнити фэйр», когда рекламировала свой последний фильм. Там в статье была фотка с церемонии вручения премии «Оскар». На этом снимке мои папа с мамой подъезжают к красной дорожке на крошечном электромобиле. Но, если по правде, когда их никто не видит, они повсюду летают на арендованном реактивном «Гольфстриме», даже чтобы забрать из химчистки одежду, которую отправляют на чистку во Францию. В том фильме мама была номинирована на «Оскар» за роль монахини, которой становится скучно в монастыре, и она, исключительно из стремления к самореализации, отвергает свои монастырские обеты и возвращается в мир, где занимается проституцией, потребляет героин и делает несколько абортов, а потом у нее появляется собственное дневное ток-шоу, бьющее все рекорды по рейтингу, и она выходит замуж за Ричарда Гира. В прокате фильм провалился с громким треском, зато критики все обкончались в хвалебных отзывах. Кинокритикам и рецензентамочень хочется верить, будто ада не существует.
Похоже, «Клуб “Завтрак”» воздействует на меня точно так же, как на маму – Вирджиния Вулф. В смысле, она ела ксанакс горстями, когда читала «Часы», а потом еще плакала целый год.
В том интервью для «Вэнити фэйр» моя мама сказала, что единственное настоящее зло – это крупные нефтяные компании, способствующие глобальному потеплению, из-за чего вымирают невинные белые медвежата. И что уж совсем ни в какие ворота: «Мы с моей дочерью Мэдисон много лет боремся с ее катастрофическим детским ожирением». Так что да, мне знако́м термин «пассивная агрессия».
Другие дети ходили в воскресную школу. Я посещала экологический лагерь. На Фиджи. Девчонки учили наизусть десять заповедей. Я училась снижать свой углеродный след. В мастерской традиционных ремесел,на Фиджи, мы плели сувенирные кошельки из сертифицированных, выращенных на органических удобрениях, собранных без ущерба для окружающей среды и продаваемых в рамках честной торговли пальмовых листьев. Кошельки получались убогими и годились только на выброс. Путевка в экологический лагерь стоила около миллиона долларов, но в туалете мы все равно подтирались грязной бамбуковой палочкой, одной на всех. Вместо Рождества у нас был День Земли. Если ад существует, говорила мама, туда попадают за то, что носят шубы из натурального меха и пользуются кремами, протестированными на новорожденных крольчатах нацистскими учеными, сбежавшими во Францию. Если есть дьявол, утверждал папа, то это Энн Коултер. Если есть смертный грех, вторила ему мама, то это пенопласт. Обычно они излагали свои экологические догматы, разгуливая голышом при незадернутых шторах, чтобы я не выросла мелкой мисс Шлюшкой Вандершлюх.
Порой в роли дьявола выступали крупные табачные корпорации. Иногда – японское дрифтерное рыболовство.
И, что самое смешное, нас везли в экологический лагерь вовсе не на сампанах, мягко подталкиваемых тихоокеанскими течениями. Нет, каждый ребенок добирался туда на отдельном частном самолете, сжигавшим около миллиарда галлонов ископаемого горючего – динозаврового сока, которого никогда больше не будет на нашей планете. Каждого ребенка снабжали едой, соразмерной по массе с его собственным весом: органическими инжирными батончиками и йогуртовыми пастилками, экологически чистыми, но запечатанными в одноразовую майларовую упаковку, которая не разлагается вообще НИКОГДА, – и весь этот груз тоскующих по дому детей, полезных вкусняшек для перекуса и игровых приставок мчался на Фиджи со скоростью, превышающей скорость ЗВУКА.
Ну, и что мне с того… посмотрите на меня теперь: умершая от передоза марихуаны, проклятая на вечные муки в аду, я расчесываю себе щеки до крови, желая убедить девицу в соседней клетке, что страдаю контагиозным псориазом. В окружении бессчетных прогорклых «снежков» из попкорна. Хотя есть и плюсы. В аду вы избавлены от рабства своего плотского «я», и это может быть истинным благословением для самых брезгливых чистюль. Скажу прямо: здесь вам уже не придется заниматься скучными и утомительными делами, необходимыми для поддержания физиологической жизнедеятельности, как то: прием пищи, мытье и опорожнение разнообразных телесных отверстий. Если вы попадете в ад, в вашей клетке не будет ни туалета, ни воды, ни кровати, но вам они и не нужны. В аду никто не спит, разве что притворяется спящим во время очередного карательного показа «Английского пациента».
Мои родители, несомненно, хотели как лучше, но трудно спорить с тем фактом, что я заперта в ржавой железной клетке с видом на живописный бушующий водопад экскрементов – я говорю о настоящем дерьме, а не только об «Английском пациенте», – но я НЕ жалуюсь, нет. Уж поверьте, в аду жалобщиков хватает и без меня. Как говорится, в Ньюкасл со своим углем не ездят.
Да, я знаю слово «экскременты». Я сижу в клетке, мне скучно, но с головой у меня все в порядке.
Кстати, именно по совету родителей я начала расслабляться, экспериментируя с легкими наркотиками.
Да, это несправедливо, но, наверное, самое худшее, чему меня научили родители, – это надеяться. Если сажаешь деревья и сортируешь мусор, говорили они, то у тебя все будет хорошо. Если ты компостируешь пищевые отходы и ставишь на крышу солнечные батареи, то можно уже ничего не бояться. Возобновляемая ветровая энергия. Биодизель. Киты. Вот что, по мнению родителей, станет нашим духовным спасением. Глядя на квадриллионы католиков, осыпающих благовониями гипсовую статую, или на миллион миллиардов мусульман, преклонивших колени на молитвенных ковриках лицом к Нью-Йорку, папа всегда говорил: «Вот же несчастные, дремучие люди…»
Одно дело, когда родители, все из себя светские гуманисты, рискуютсвоими бессмертными душами, но ведь они рисковали еще и моей. Они так уверенно делали ставки, с такой самодовольной бравадой, а проиграла-то я.
Когда смотришь по телевизору на баптистов, собравшихся перед клиникой и машущих голыми куклами, насаженными на деревянные палки и облитыми «кровью» из кетчупа, поневоле поверишь, что все религии мира – это и вправду бред сивой кобылы. Мой папа, напротив, всегда утверждал, что если я стану есть много клетчатки и сдавать пластиковые бутылки в переработку, то у меня все будет хорошо. А если я спрашивала у мамы про рай или ад, она давала мне ксанакс.
А теперь – вот поди ж ты! – я жду, когда демоны вырвут у меня язык и поджарят с беконом и чесноком. Или примутся тушить сигары о мои подмышки.
Не поймите меня неправильно. Ад не так уж страшен, особенно по сравнению с экологическим лагерем, и уж тем более – со старшей школой. Вероятно, кто-то сочтет меня слишком наивной, но, по-моему, мало что может сравниться с восковой депиляцией ног или пирсингом пупка в аптечном киоске в торговом центре. Или с булимией. Хотя я-то уж точно не отношусь к категории худосочных мисс Блядди фон Блядки с расстроенным пищевым поведением.
Но меня угнетает надежда. Надежда в аду – это очень плохая привычка, хуже курения или тяги грызть ногти. Надежда – жестокое, настырное чувство, от которого следует избавляться. Это зависимость, ее надо лечить.
Да, я знаю слово «настырный». Мне тринадцать лет, я разочаровалась во всем, мне немного одиноко, но я вовсе не глупая.
Как бы я ни старалась душить в себе эти благостные порывы, все равно продолжаю надеяться, что у меня еще будет первая менструация. Я продолжаю надеяться, что у меня вырастет грудь, как у Бабетты в соседней клетке. Или что я суну руку в карман и найду там ксанакс. Скрестив пальцы, представляю, как какой-нибудь демон бросит меня в котел с кипящей лавой, и я окажусь, совсем голая, рядом с голым же Ривером Фениксом, и он скажет, что я симпатичная, и захочет меня поцеловать.
Проблема в том, что в аду нет надежды.
Кто я такая? Сочинение в тысячу слов… Я вообще без понятия. Но для начала, наверное, я откажусь от надежды. Пожалуйста, помоги мне, Сатана. Я буду рада. Помоги мне избавиться от пристрастия к надежде. Спасибо.
IV
Ты здесь, Сатана? Это я, Мэдисон. Сегодня мне показалось, будто я тебя видела, и я махала руками, как какая-нибудь обезумевшая, распалившаяся фанатка, пытаясь привлечь твое внимание. Ад открывается для меня с новых, весьма интересных сторон, и я начала изучать азы демонологии, чтобы не чувствовать себя идиоткой до скончания веков. Честное слово, мне даже некогда скучать по дому.
И еще я познакомилась с мальчиком с восхитительными карими глазами.
Вообще-то в аду нет деления времени на дни и ночи, здесь постоянно приглушенное освещение, подчеркнутое оранжевым мерцанием пламени, облаками белого пара и клубами черного дыма. Все в совокупности создает атмосферу непрестанного деревенского зимнего праздника.
Но у меня, слава Богу, есть наручные часы с автоматическим подзаводом и календарем. Прости, Сатана, я нечаянно произнесла слово на букву «б».
Всем живым людям, которые еще топчут землю, принимают мультивитамины, исповедуют лютеранство или делают колоноскопию, очень советую приобрести высококачественные и долговечные часы с функцией даты и дня недели. Не рассчитывайте, что в аду будет ловиться мобильная связь, и не надейтесь, что вам хватит прозорливости умереть с зарядным устройством в руках, но даже если и хватит, то в ржавой клетке все равно не найдется подходящей розетки. Только не покупайте какой-нибудь «Свотч». «Свотчи» из пластика, и в аду пластик сразу расплавится. Не скупитесь, не экономьте на себе, вложитесь в качественный кожаный ремешок или раздвижной металлический.
Если вы все-таки пренебрежете моим советом и не обзаведетесь нормальными часами, то НЕ НАДО высматривать, нет ли поблизости умной, активной, не в меру упитанной тринадцатилетней девочки в мокасинах«Басс Уиджен» и очках в роговой оправе, и не нужно выспрашивать у нее: «Который час?» и «Какой сегодня день?» Эта вышеупомянутая девчонка, хотя и толстая, но смышленая, просто сделает вид, будто глядит на часы, а потом ответит так: «В последний раз вы ко мне обращались с этим вопросом пять тысяч лет назад…»
Да, я знаю слово «вышеупомянутый». Может быть, я немного раздражена и ершиста, но, как бы вежливо вы ни просили, подпустив в голос заискивающие нотки, я, блин, точно не подряжалась работать для вас службой точного времени.
Кстати, прежде чем вы попытаетесь бросить курить, примите к сведению, что курение – отличная тренировка для подготовки к вечности в аду.
И прежде чем делать ехидные замечания о моем истеричном характере, мол, у девочки «красные дни календаря» или «девчонка уселась на ватного пони», на секунду задумайтесь и попробуйте вспомнить, что я мертва – я умерла юной и неполовозрелой, и поэтому надо мною не властны глупые репродуктивные императивы, которые, вне всяких сомнений, довлеют над каждым мгновением вашей убогой биологической жизни.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.