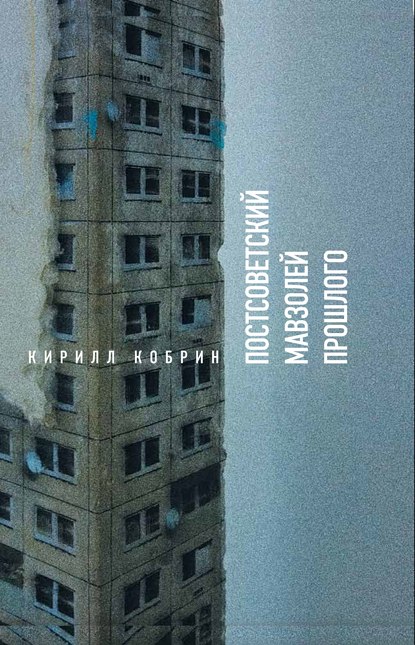Полная версия
Искусство прозы, а заодно и поэзии
Иными словами, конференция была одним из первых коллективных действ, где нынешний авангард выступал не замкнуто (как в случае фестивалей), но в контакте с людьми, профессионально желающими разобраться с реальными сутью и природой движения. Практики имели возможность ощутить отношение к себе теоретиков, теоретики же получили шанс почувствовать строй мышления практиков. Другое дело, что конференция составлялась в марте, а тогда одной из предполагаемых ее целей была консолидация теперешнего авангарда. За полгода, однако, многое переменилось. Но об этом – речь ниже.
Здесь не будет производиться пересказ шести дней конференции, просто несколько выводов, образовавшихся как бы само собой к концу ее работы.
Главный результат вот какой. Сам факт явной активности авангарда в последнее время все же не мог служить ответом на вопрос: органичен ли теперешний авангард или развитие его иллюзорно, является следствием некоего коллективного резонанса, родом массового психоза? Теперь понятно – он органичен. Во-первых, просто потому, что погрязшие в коллективном психозе профи постарались бы в подобной ситуации отъединиться, сплотиться и приступить к агрессивной самозащите – ни признака чего-либо подобного. Искренний взаимный интерес, украшенный пониманием друг друга. Во-вторых же – при изрядном разнообразии точек зрения всех выступавших, практики говорили об одном, вплоть до совпадения чисто технологических приемов: независимо от рода представляемого ими искусства.
Кроме того, стало понятно, что авангард не является неким технологическим цехом искусства, снабжающим техническими разработками представителей цехов более традиционных. Нет, это отдельная зона со свойственным ей сознанием (как художественным, так и «человеческим»), вне которой никакие технологии неприменимы. Хорошо это или плохо, а так есть.
Теперь о нынешнем состоянии авангарда. Возникнув как искусство, противопоставившее себя искусству официальному (цитируя интервью О. Хрусталевой журналистке из Le Nouvel Observateur), авангард быстро обнаружил способность саморазвития, способность создать свой, новый язык. Развиваясь на территории андеграунда, самиздатовских журналов, искусства не зрительского, заведомо не коммерческого, авангард (помимо собственно художественных текстов и концепций) породил весьма мощную среду из практиков, критиков и сочувствующих. (Да, возникает естественный вопрос о полноте представления авангарда на конференции. Ответить можно так: поскольку собравшимся в Ленинграде практикам известны и знакомы остальные (не присутствовавшие) – выборка представляется вполне достоверной.) Так вот, примером такой среды является хотя бы Свободный университет, начавший свою работу в Ленинграде осенью 1988 года. Университет являет собой федерацию отдельных мастерских, большинство руководителей которых участвовали в конференции. Несмотря на то что университет платный, содержится на средства учащихся и не обещает пока никаких гарантий признания его диплома официальными учреждениями, конкурс в мастерские доходил до пяти человек на место, причем учиться в нем желают люди и из университета, и из того же ЛГИТМиКа.
Здесь возникает очень серьезный вопрос. Да, авангард органичен, это зона со своим сознанием, но вот является ли это изменение сознания долговременным, жизнеспособным надолго, либо произошел единовременный скачок (как это было в начале века), и впереди нас ждет долгое стабильное существование на достигнутом уровне? Обостряя ситуацию, можно сказать, что есть дилемма: либо внутренняя свобода, либо возвращение в прежнее состояние с неким пряником в руках – который и съесть-то нельзя, а только раскрасить и повесить на стенку. Теперь, собственно, этого знать нельзя.
Но можно ответить на смежный вопрос. О границах между авангардом и внешней средой. Они на самом деле не определены вполне – чему приметой и отсутствие прочного термина (единого, а не: «авангард», «молодая культура», «новая культура»). Но стало, например, понятно, что рок к авангардной культуре уже не имеет отношения (а еще недавно – имел), что его место в ряду остальных родов искусств займет (а что не занял раньше – уже даже странно) «академический музыкальный авангард». Ситуация изменяется, и изменяется на глазах: на третий день конференции не-практики предлагали оформить ее неким заключительным документом, меморандумом, который совместно составили бы практики и/или теоретики. Конечно, собравшимся вместе практикам сегодня в головы подобная мысль прийти уже не могла. Они могли бы сделать совместный художественный текст. Ну так это происходит и так. А к завершению конференции ненужность какого угодно меморандума была очевидной уже для всех. И ощущение «что состоялось» образовалось естественным образом.
По поводу нынешнего состояния авангарда. Стало понятно, что закончился второй период его существования. (Первый – от противопоставления официозу к самосуществованию. Второй – наработанные тексты сформировали новое художественное сознание.) Далее уже не тексты будут формировать сознание, но сознание – порождать тексты. Понятно, что часть участников второго этапа (вероятно, большая) будет стремиться расширить свою аудиторию, озаботится (уже, впрочем) менеджментом (как рокеры – им не в обиду, это – их функция), другая же часть подключится наконец к процессам европейского авангарда, сохраняя при этом весьма зрелую индивидуальность. Более-менее понятно, какие особенности будущих текстов будут определять их принадлежность к тому или иному варианту жизни. (Можно сказать в скобках: тексты, являющиеся некими кодами – с присущей кодам инвариантностью их восприятия, и тексты, остающиеся лишь текстами – требующими субъективной интерпретации. Как пример: соц-арт, который, работая в обиходной среде, сумел выйти на уровень кодов и тем самым – как это ни парадоксально – ушел из-под социума.) Кроме того, все согласились, что время стеба кончилось. Кроме того, в разговорах возник (со стороны теоретиков) термин «универсализм» – как замена «постмодернизму». Кроме того, многие обратили внимание на продолжающееся сближение между принципами, управляющими написанием текстов, и самими текстами – предполагающее их скорое соединение в нечто одно.
И, учитывая сказанное выше, описывать саму атмосферу этих шести дней решительно не представляется необходимым.
«Господа коллеги!.. Мы вошли в область простых существований»14
Признаться, я был несколько удивлен, получив вместе с приглашением на это собрание и тему, к обсуждению здесь предложенную. Согласитесь, она странна: учитывая изощренность как воспринимающего, так и размышляющего, а равно как и креативных аппаратов собравшихся тут индивидуумов, говорить на тему «песок и вода» несуразно. То есть вот в чем дело: «песок» и только – без уточняющих его эпитетов, вроде песка речного, белого цвета, на зубах, городского, запачканного соляркой и так далее, метафоризируя либо расчленяя объект. То же и вода. Так нет: «песок и вода», и все тут. Простота то ли библейская, то ли первобытная.
Исходя из этого, воспринимать тему приходится исключительно как эвфемизм для любой дихотомии вроде «с одной стороны, а с другой стороны» или «во-первых, но во-вторых», что, в свою очередь, свидетельствует о том, что мы, похоже, вновь оказываемся перед лицом совершенно недифференцируемой действительности, что и требует опять начать все заново, проведения первого по ней разреза. В наших, я полагаю, интересах.
Здесь, говоря политически – а я буду говорить исключительно так, поскольку любая дихотомия предполагает первенство именно политики, довлеет ей, да и просто ей и является, надо решить несколько вопросов касательно нашего текущего положения. А именно.
– Что сохранилось из прежнего положения вещей?
– Что отменено новым положением вещей?
– Какое положение вещи будут иметь в будущем и как нам поступить, чтобы это положение было нам приятно?
Рассуждая о первом вопросе, надо непременно иметь в виду то, что любая личность склонна самосохраняться, скрывая от себя суровую правду, но и учитывая это, представляется, что ничто существенное не отменилось – полагая под этим существенным то, что заставляло присутствующих на протяжении определенного времени ставить в текстах слова рядом друг с другом определенным образом. То есть – их можно продолжать ставить тем же манером, и это естественная и единственная основа, от которой могут отталкиваться прочие рассуждения: именно то, что правильность постановки слов в текстах осталась прежней, и позволяет глядеть на подлежащий дихотомированию мировой хаос не с опаской или недоумением, а, скорее, алчно и с предвкушением, пусть даже и отчасти мрачноватым.
Что отменилось? Отмены коснулись только политических материй: как уж эту политику ни понимай. Жизнеобеспечивающей, культурной, политической, контекстуальной, жизненных, извините за выражение, устремлений. Полностью отменены иллюзии семидесятников, в известной степени продержавшиеся чуть ли не до конца 80‑х, а именно представление о том, что «независимая», «вторая» культура предполагалась носителем истинных высокодуховных ценностей, которые, после рассеяния аки дым ценностей ложных, должны повсеместно овладеть массами с вытекающими отсюда последствиями для культуры «независимой».
Ну что же, лет пять у нас были какие-то более-менее приличные журналы с тиражами тысяч в 30–50: «Д[екоративное] И[скусство]», «Искусство кино», «Театральная жизнь» – молодежная при Плошко15. И этот тираж вполне обрисовывал общую ситуацию. Понятно, таких тиражей нынче быть не может – равно как и самих подобных изданий, – и не только из‑за всяческой бытовухи вроде стоимости бумаги и всего остального, но и потому, что некоторые люди, какое-то время содержавшиеся в зоне определенного душевного склада, нынче содержаться там не хотят, а желают расшириться куда только можно, как раструбом выходя на широкую публику. Уж и не знаю, с каким успехом.
С другой стороны: даже какое-то малое время общаясь с западными гражданами, ощущаешь, замечая, что через какое-то небольшое время начинает увеличиваться не количество персонажей там, но число связей между уже известными. И понимаешь, что такое положение вещей нормально и весьма свойственно человеческой природе. То есть – с точки зрения художественной социологии – мы обнаруживаем себя просто-напросто маргиналами. Уж и не знаю, какой эпитет может точно установить характер этой маргинальности. Юхананов, полагаю, назвал бы это «маргинальной маргинальностью» или «маргинальностью-маргинальностью» – каковая на самом деле существовала всю жизнь, но вот как-то недоосознавалась внятно из‑за известного положения вещей тогда: из‑за всего этого подразделения на официальное и диссидентское.
Еще раз хочу отметить, что осознание подобного факта не может быть поводом печалиться, но должно стать поводом для радости, как и любое новое знание о структуре мироздания: если что-то стало понятным, то это можно использовать, пока остальные не догадались. Во всяком случае, маргинал вполне свободен от обузы ощущать в целом все, извините за выражение, здание современной культуры – учитывая в оном наличие этажей для желающих самовыражаться и сексуально не удовлетворенных своим общественным положением субъектов.
Согласен, я излагаю весьма банальные вещи – давным-давно понятные и понятные интуитивно, но лучше перевести их в очевидный факт, чтобы избавить свою интуитивную жизнь от подобной ерунды.
Но следует обратить внимание вот на что: маргинальность есть штука органическая, то есть – подлежащая законам природы, а не раскладам в обществе. Ну ладно, пошлют нас, скажем, к черту спонсоры и издатели, так будем воровать бумагу, договариваться за бутылку о ксероксе и делать самиздат – если уж так захочется. Но снимается вопрос существования – по какому-то закону природы маргиналы все равно будут появляться на свет, обладать примерно теми же качествами, что и нынешние, и, уж во всяком случае, тем же мировосприятием. Это, знаете ли, не семидесятники, которым обязательно было кого-то учить, дабы что-нибудь не прервалось. Какой вид будут иметь вещи в будущем? В будущем они будут иметь простой вид: не стоит говорить о сооружении дворца русской культуры с подвалами, чердаками и лифтами, шныряющими между этажами. Во всяком случае, дело маргиналов состоит не в устроении общей поверхности, пусть даже сколь угодно сложного вида. Речь может идти об отдельных проектах, находящихся во вполне внятных и сильных взаимоотношениях между собой. Понятие проекта, кажется, и отличает наиболее точно маргинала от человека из общества. Возьмем, к примеру, Драгомощенко – у Драгомощенко есть проект. Может ли Драгомощенко облажаться? Да сколько угодно, и более того, он просто обязан это делать, чтобы выяснить все касательно своего проекта. А вот человек общественный – Кутик, например. Может ли облажаться Кутик? Нет, ему нельзя, потому что это может сразу поставить под сомнение величину его несомненной культурной величины. Поэтому он тщателен и немногословен. И вообще свинтил куда подальше от культуры, которую должен был строить и объединять в целое.
Иными словами, мы действительно вошли в область простых существований, имея за собой лишь органическую поддержку этого живого пространства, которая скажется и в том, что обеспечит связь между отдельными нами. За пределами же этой области и личных проектов мы вольны делать что угодно – не слишком волнуясь за сохранность процесса и не слишком морщась от запашка окружающей действительности. Маргиналами же, как вы понимаете, не становятся, но рождаются, и прошу прощения у Аркадия, если ему это слово не кажется подобающим, а я его туда записал.
Июль 19921998–2014: Москва
ОЧЕРКИ О ГОРОДАХ
Три кусочка времени16
1У меня никогда не было отчужденного взгляда на Москву, я ее как бы всегда знал, увы. Не жил там, но часто бывал – застал еще ранние 60‑е, видел однажды, как на квартире одного из наших пожилых московских знакомых, где-то на Новой Басманной, в гостиной собирались для преферанса 80-летние старушки в митенках. Играли они со специальными цветными – не помню уже цветов (белыми, малиновыми?) круглыми плоскими фишками – бытовая чаадаевщина какая-то, как стало понятно впоследствии. А на ВДНХ в тот же год по демонстрационному помосту ходило некое уродище-робот, чуть ли не с надписью СССР алой краской на квадратной алюминиевой голове. Или – цилиндрической, чуть на конус.
Возраст был такой, что эти истории просто в меня всасывались, не производя никаких мнений насчет столицы, зато положили в мозгу, что ли, подстилку, которая уже не позволила когда-либо отнестись к Москве как к чужому. Была уже легкая, мерцающая связь, ну а семантическая, эстетическая и прочие разницы между Ригой и Москвой становились еще менее внятными по ходу советской власти, утаптывавшей различия. Так, стилевая разница между тем, что умирает в Риге, и тем, что в Москве.
В Риге (до новых нацвремен – людный и оживленный город) было чуть больше Европы, и мало кто всерьез воспринимал коммунистическую чухню. Но если уж воспринимал, так бескомпромиссно – лица, например, ее исповедовавшие по должности (искренне – как провинциалы от власти они были уверены в том, что эта методология им поможет всех построить). От этого советская придурь была там выпяченней и только укрупнялась присутствовавшей тут же оппозиционной придурью латышей. То есть все эти московские воспоминания о Прибалтике, которая была советским Западом, – ерунда. Отпускная эйфория, немного самовнушения, холодное море и немного слов латиницей на вывесках.
Ну а русские там жили в зоне пустоты – идеологической и какой угодно, что всегда вызывает метафизическое отношение к действительности. Вот и к Москве – тоже.
До конца СССР Москва из Риги представлялась инопланетным монстром – летающая тарелка из бетона с завитушками, выделяющая из себя постоянный мороз (метафизический) и бред телерадиопередач и прочих СМИ, странные властные команды. Бесчеловечность тарелки прямо свидетельствовала о ее разумности, то есть – сделанности, то есть – наличии некоего центра управления, то есть – чего-то типа мысли. Чужой, но регулярной. Не город, а большой бункер на глубину Останкинской башни.
Сие предощущение реализовалось для меня в варианте наоборот, когда после школы я переместился на Ленгоры, где и провел пять лет в районе 12–16‑го этажей ГЗ и 14–18‑го этажей зоны Б. Вся эта метафизическая бетонная медуза лежала внизу 24 часа в сутки, перемигивалась огоньками, свидетельствуя об интенсивной жизни тайных волоконцев и проч. нервных отростков – они-то, несомненно, и производили свежие номера газет, теле- и радиопрограмм и всего прочего, сообщавшего о генсеке и советских хоккеистах.
Что до инопланетности, то тут наоборот: по отношению к Москве уже ГЗ в частности и университет в целом были внешним объектом. Уже они теперь нависали над этой развито-социалистической медузой-лепешкой, то есть – инопланетной все-таки оставалась именно она.
Улицы Москвы тогда были какими-то очень длинными (о пустоте, раннем времени закрытия всех лавок и всего прочего, запахе тогдашних сигарет упоминать не надо – кто не нюхал, не поймет). Но длина улиц и действительно была странной… Или количество сил было почему-то крайне небольшим – сейчас, например, мне не составляет труда осуществить, скажем, вот такой или иной маршрут по городу, а тогда на это нужно было какое-то мучительное усилие. А вряд ли я за эти 25 лет стал физически крепче.
Схема с подсевшей летающей тарелкой пошла, конечно, – пошлый, значит, был город. Достаточно мерзкий, если честно. И, как следует предположить из предыдущего абзаца, жрал своих обитателей, перерабатывая какое-то извлеченное из них вещество, какие-то молоки, в эти вот газетные сообщения.
То есть городом Москва тогда не воспринималась, человеческим. Человеческое оставалось на Горах. Конечно, было понятно, что внизу, в этом инопланетном монолите, живут нормальные люди, они связаны друг с другом, но проникнуть в их жизнь трудно – просто в силу общетехнических причин, того же метафизического холода, людской конспирации. Они, люди, как бы текли какой-то жидкой слюдой внутри города, из всех дыр которого несло властью.
Накопление сущностей не складывалось ни во что: с костной системой власти не связаны разводы на кафельном полу булочной. Москва в 70‑е была похожа на воблу. В экспортном варианте – на круглую лакированную бомбу с часовым механизмом им. Спасской башни и рубиновыми звездочками внутри.
Формы любви были странные. С первой подружкой мы, отызнывав в пустых аудиториях, поехали взаимно лишаться невинности аж – ее идея – в Горки Ленинские. Уж и не знаю, почему она решила, что именно туда. Безлюдно там было, да, но все равно не получилось. Но подружка была москвичкой, так что сюжет был вполне внутренним, а не бесприютно-приезжим.
Потом-то мы невинность друг друга все же победили, но произошло это уже в более естественном для нас порядке этих двух слов – на Ленгорах, в общежитии, разумеется, при наличии кучи моих сокурсников в соседней комнате блока (отчего раньше она общежитие избегала, но Горки Ленинские ее, видимо, переубедили). Мы, конечно, слегка заперлись, но все равно в этот сакральный момент к нам не ломились, да и какие там засовы, в ГЗ.
Что, скажем, совершенно случайно подарила мне моя другая, но – так получилось – почти ее же возраста подружка через 25 лет: крупный, круглый, выпуклый с насечками декоративный гвоздик от дверей кинотеатра «Иллюзион» (он просто упал ей в ладонь, и она так его и принесла, ладони, что ли, не разжимая) – и это был жест совершенно «из тогда», потому что примерно тогда такой гвоздик и жест были бы чем-то живым. Ну, это было что-то настоящее…
Трудно понять, почему тогда происходили все эти сложности. Чувства были изрядно отягчены до сих пор не исследованной дрянью, ныне практически утраченной. Воздействовала же она так, словно какая-то спица, обшаривала небо как прожектор; спицей, исходящей из какого-то центра, пусть даже и отсутствующей, но всегда ищущей тебя. Все это существовало так, будто еще не изобрели солнце.
Я доучился и, конечно, уехал в Ригу.
2В начале 90‑х рижское отношение к Москве – заслонившей тамошнему взору всю Россию – стало еще более метафизическим, но уже с попсовым поворотом, отчего – телевизионным. Или наоборот – телевизионным и потому попсовым.
Тогда для Риги Москва уже полностью закрывала всю Россию. Прежняя инопланетная медуза столицы пошла в рост, воздвиглась в воздухе монстром, маячившим сразу же за латвийской восточной границей. Почти Небесный Град или некая Новая Вавилонская башня, при постройке которой никак не могли согласоваться друг с другом не языки, но возрасты и сословья. Но – она все же строилась.
А вот какие-то жилки были передавлены (да просто визы минус газеты и почта, вот и все), и Москва, Россия отсохла от своих бывших окраин – перейдя в разряд оптических фата-морган. Она оказалась для оттуда неким объектом от Даниила Андреева с мощью и разумностью нев**бенными, – какой-нибудь уицраор, что ли, или мудгабр, в общем – чистый шаданакар, всяко превосходящий имеющееся на земле стократно. После путча из Риги казалось, что произошло некое волшебное перевоплощение и Россия, то есть Москва, – расколдовалась, встав во весь какой-то решительно исполинский рост, который пролезал только в CNN, а никак иначе.
Что было уже на самом деле театр Карабаса Барабаса, граница стала быть ширмочкой кукольного театра, над которым появляются те или иные персонажи – всякий из которых олицетворял собой состояние государства как таковое. Все происходившее в России со времен путча воспринималось из Риги как кукольный театр. Потому что кто там кого знал из новых, из тех, кого показывали по телевизору, а кого не показывали – вообще не знали.
В самом деле, с 1991 года там никто не знает о том, что такое Россия и Москва. Все только эти истории о гражданской войне, о новых русских, ГКО, кризисе-дефолте – отодранные друг от друга, что подразумевает полную непонятность того, что на самом деле. При этом – одновременно – то, что они казались такими большими, заставляло жителей окраин – уж за Ригу отвечаю – ощущать их некими типа гуру, которые своей властью и взором позаботятся о тех, кто на окраинах позабыт. Рижские русские-советские долго не могли поверить в то, что их и не заметили, подписывая бумаги о разделе территорий.
Словом, для рижан все в России было сверхтеатром – с большими надувными людьми, какие ходили по Кутузовскому на День города в 1998‑м. То есть – если уж криминал, так каждый день все гоняются по всем улицам и перестреливаются из гранатометов, коммунисты заставляют маршировать всех чуть ли не строем и продолжают держать руку на каком-то пульсе, или, наоборот, вот Россия сейчас как встанет и всех подряд славян спасет. То есть начался уже вполне жанр ходящих по Москве медведей – к этому жанру пришли очень быстро. Впрочем, этому восприятию в Москве вполне отвечает Церетели – с окраин действительно все видят именно так.
Небесные грады существуют вполне определенное время, при этом лет пять они в состоянии не тускнеть. Что там теперь о Москве пишут – не знаю. Года два назад русские журналисты уже не писали о России, а только переписывали московскую прессу, по-прежнему не очень понимая, про что все это, зато – уже вынося ей морально-нравственные оценки. Им почему-то очень захотелось, чтобы в России все было ужасно, и в своих изложениях они преуспели. Например, классная руководительница моего старшего сына, узнав о том, что он уезжает в Москву, напутствовала его тем, что ему будут постоянно бить лицо и все остальное – потому что в России так принято. Приехав, он стремался чуть ли не две недели, а я не мог понять, в чем проблема.
А о чем они пишут про Москву теперь, я не знаю, потому что живу здесь.
3Когда я приехал в Москву в самом начале 1998-го, все стало замечательно – мой мозг восстановился, сросся с тем мозгом, который всегда был в этом городе, жить стало чудесно, хотя первое время и приходилось сторониться ментов. А потом я сообразил, что вполне вписываюсь в генотип и обращать на них внимания не надо.
Приходилось узнавать такие вещи, как где платить за телефон (междугородний, не входящий в стоимость съема квартиры), как принято в Москве ездить в транспорте – то есть брать билет или нет и сколько тот стоит. Не говоря уже, скажем, о вилке цен в разных районах и в разных с виду точках продажи пищи.
Все это было в тот год, когда 12 апреля пошел снег и не растаял, а шел потом и тринадцатого, покрыв к вечеру все улицы, крыши, карнизы – точь-в-точь декабрьский – пушистый и надежный. «Девочка, а разве теперь лето?» – вспоминали все анекдот о девочке на морозе в ситцевом платьице: «Лето, только вот такое вот херовое», – отвечала девочка в анекдоте, а теперь все это было взаправду. На барьерчике подземного перехода возле стекляшки-ночника на углу Никитского бульвара и Нового Арбата полуночные люди пили пиво, спрашивали друг друга о том, купили ли уже елку, и поздравляли друг друга с Новым годом.