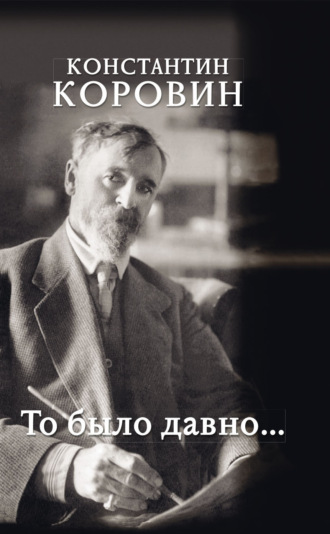
Полная версия
То было давно…
– Странно. Ничего вы не знаете, – волновался Василий Сергеевич. – Во-первых, из лошадей делают столярный клей, из смолы – деготь, а из рыбы – клей и визигу. Не из нашей рыбы – плотвы и окуней, конечно, – а из китов, акул, моржей…
– Постой. Вася, ведь морж-то не рыба, – говорю я.
– Все равно, извините. Все равно-с. Вроде. А морская корова, по-вашему, не рыба? У ней хвост – рыбий.
– Ну это ерунда, – сказал Коля.
– Вздор говорите, потому что вы не проходили ихтиологию. Вот вы – охотники, рыболовы, а ничего не знаете…
– Ихтиологии, говоришь, не знаем? – прищурившись, спросил Вася. – А ты копченого сига ел?
– Конечно, ел.
– Отчего у него палка внутри вставлена?
Коля, мигая, помолчал и, подумав, медленно сказал:
– Действительно, у него палка внутри есть, а зачем – неизвестно.
– Нет, известно. Если бы тебя коптить, что бы ты делал?
– То есть позвольте, как же это, меня коптить, я же не рыба.
– Это все равно. Если бы тебя коптили – ты бы вертелся, тебе бы не нравилось… Вот в тебя бы и вставили палку – не вертись. Понял, ты, ихтиолух?
– До чего глупо и пошло, – сказал серьезно Павел Александрович.
– Позвольте, позвольте, – обиженно возражал приятель Коля, – во-первых, не ихтиолух, а ихтиолог, а во-вторых, ихтиология этими вопросами не занимается.
– Нет-с? Хорошо, посмотрим, – горячился Василий Сергеевич. – Ну-ка, скажи, ихтиолух, где копчушки ловятся?
– Копчушки? – задумался Коля. – На Волге.
– Ну а навага? – не унимался Вася.
– Навага, навага… Постой. Тоже на Волге.
– Вот и врешь… На Белом море.
– Но я же не обязан знать – где что ловится, об этом в ихтиологии не говорится…
А где шпроты ловятся?
Коля молчал.
– А миноги?
– Миноги, брат, – это не рыба.
– Как – не рыба? А что же? Вот – не знаешь! А мымра?..
– Постой, постой, – задумался Коля. – Это, брат, в море.
– А ты ее ел?
– Конечно, ел.
– А где ел-то?
– В Петербурге, у Лейнера, и в Москве, в «Праге».
– Никогда не ел мымру, – сказал Тучков. – Вообще, странно. Мы так много едим всего, а что – в сущности не знаем.
– Мымра – это не рыба, – сказал Караулов. – Совсем нет такой рыбы. Мымра – это птица…
– Эвона, глядите-ка, что уток-то летит! – вдруг крикнул Герасим. – Знать, с Ватутина озера.
Все сразу забыли об ихтиологии и подняли головы кверху.
– Что ж, идем туда, – заторопились мы.
– Вот жара маленько свалит, и пойдем, – лениво сказал Герасим.
Тихо было Ватутино озеро.
На зеркальной поверхности, через камыши, мы увидели вдали большие стаи сидящих уток. На отлогом песчаном берегу лежал старый челн.
Мы сдвинули челн с песка на воду, но никто не решался ехать нем по озеру.
Павел Александрович, ничего не говоря, смело залез в челн.
– Ну-ка, дай-ка, Вася, кол. Вон лежит.
Василий Сергеевич взял у куста на берегу большой кол, сам тоже залез в челн и подал кол Павлу. Тот живо оттолкнулся от берега. Челн быстро двинулся по серебряной глади озера. И вдруг опустился вниз.
Оба приятели наши пропали в воде и вскоре вновь показались на поверхности, барахтаясь и отплевываясь.
– Это ж не шутки! – кричал во все горло Василий Сергеевич.
На озере от крика поднялись утки.
– А здесь глубоко, – сказал Герасим, глядя на барахтающихся приятелей, и начал раздеваться.
– Плывите к берегу! – кричали мы.
– Трудно в сапогах-то, – сказал Герасим и бросился в воду.
Подплыв к Василию Сергеевичу, он схватил его за мокрую куртку и поплыл с ним к берегу. Тучков ухватился за край челна и, медленно гребя одной рукой, тоже приближался к нам.
Приятель Вася с испуганным лицом стоял по пояс в воде близ берега и говорил, глядя на нас:
– Благодарю вас, угостили… В одежде-то не поплывешь.
Павлу Александровичу вода доходила до горла. Он стоял рядом с челном и, смеясь, говорил:
– Недурно. Тону, хочу плыть, а меня кто-то за ноги держит. Забавная история.
Утки, кружась над озером, летели на нас.
Голый Герасим схватил ружье и присел к кустам. Раздался выстрел Караулова…
– Батюшки, – возопил вдруг Василий Сергеевич. – Ружье-то в воде осталось.
– Ахти, беда какая! – огорчился Герасим.
Все решили раздеться и по очереди стали прыгать в воду – ныряли, искали на дне ружье. Но сколько ни искали – ружья не было…
Уже вечерело. Герасим развел огромный костер. Сушили платье «утопленников», пили чай, выпили весь коньяк – по случаю «утопления». Решили остаться у костра до света и утром опять доставать ружье.
Вдали, на берегу озера, раздался выстрел, и из-за кустов показался Коля. Никто раньше в суматохе не обратил внимания, что его не было.
Подходя к нам, он поднял руку, показывая застреленного большого кулика. В другой руке он держал ружье Василия Сергеевича – ружье, которое так долго искали в воде.
– Ах ты чертова визига! – закричал Василий Сергеевич. – Где же ты ружье-то взял?
– Ты ведь без ружья поехал на озеро. А тут я увидел, что кулик сел на отмели. Я ружье взял и пошел. Вот и кулик.
Василий Сергеевич вдруг расхохотался:
– Как глупо! Как всё глупо… Вот уж действительно ихтиолух!
Правда
Приятели у меня были все люди хорошие, но характеры у всех были разные и даже довольно трудные. Жили каждый как придется в быту русской жизни, но просто. Прежде как-то не удивлялись ничему. Ну а потом, конечно, все удивились. В то время не было таких больших умов, которые явились потом. А потому жизнь шла обыкновенно, так, бытом, устоем. Приходит трубочист, чистит трубу, доктор лечит, разносчик, булочник, утром приносит хлебы, выборгские крендели, рогульки с солью. Адвокаты на суде говорят одну правду, жулики воруют, солдаты поют песни:
Э, греми, слава, трубой,Мы дрались, турка, с тобой.Люди умирали, как всегда, как и теперь умирают. Хоронили, плакали – хорошие люди умирали, жалко, но что делать. Словом, всё было просто, и никто и не думал, что трубочист – пролетарий, а булочник – эксплуататор, а домовладелец – буржуй и мошенник. В голову нам не приходило.
У меня был знакомый, вроде профессора, человек университетский, умный. Он мне внушал доверие дипломом и всё объяснил, что всё не так, как надо, и что я не развит политически, а что он – специалист. Я думал: «Э-э-э, вот умный-то». И брал он у меня деньги взаймы, но никогда не отдавал. Я думал: «Большой человек, что эта мелочь сравнительно с идеей». А потом мне, по моей мякинности, показалось вдруг – а не с прижулью ли он.
Вот во время этой патриархальной жизни, в мае, когда красота такая в природе, я как-то позвал к себе в деревню своих приятелей погостить. И так, чтобы и они позвали тоже своих приятелей.
Конец мая – красота. Как поют соловьи! А иволга свистит в саду моем – заслушаешься.
Дом большой, деревянный, а в саду беседка старинная, большая. Когда какой романс я слышу или музыку, оркестр, мне всё беседка моя вспоминается. Такой чудный сад был у меня!..
Ну, приятели собрались, слуге своему говорю я – всё захватить: вина фюдосии, румынского винограда – пять ведер, чтоб делать крюшон для прохлаждения, так как клубника и земляника поспели. Крюшон отличный будет, не пьяный.
Приятели собрались и поехали, а я должен был по делу ехать на день в Петербург. Значит, к себе через сутки возвращусь. Так и вышло.
Из Петербурга я на Бологое, по Рыбинской на Ярославскую железную дорогу, и к себе.
Приехал на станцию; мне буфетчик и говорит:
– К вам гости приехали, и граф с ними. У меня в буфете весь коньяк взяли и все вина прочие тоже. Вот и счетик, пожалуйте.
«Это, должно быть, Трубенталь придумал, – подумал я, – для крюшона, чтоб крепче выходил. Он, должно быть, и есть граф».
Встречают меня возчик Сергей Баторин и рыболов Княжев – оба в полсвиста.
Доро́гой Княжев говорит:
– Ну и люди, вот люди – человеки, эдаких и нет еще! Вот что в беседке у вас делается – ух ты! Заплакать можно, ну люди – человеки.
– Что делается?
– Вот прямо, что друг друга режут на части.
– Как – режут? – удивился я. – Что ты говоришь?
– Начисто всё говорят. Правду-матку режут друг дружке. От сердца, начисто, так что всё верно выходит. В открытую. Знай, кто ты и что ты есть. Начисто.
– Что же, пьяные, что ли?
– Нет, – отвечает Василий. – Выпивши несколько, конечно. Доктору-то вот доказали прямо: лечи, говорят, не лечи, а люди-человеки всё одно помирают. И мятные твои капли не помогут ничего. А ты только жулик, деньги зря берешь и людёв обманываешь, более ничего. Вот это правильно. Тот прямо ругался, но ничего не поделаешь. Сдался. Большого орла пил.
– Какого орла? – спрашиваю.
– Да у вас есть. Старинная чашка большая. С орлом. Из ее пить велели.
– Да ведь она разбита.
– Ничего. Веревкой связали. Только когда, значит, весь их суд доктор дураками обозвал, так трех орлов пил за это. Ну он выпивши, конечно. Это верно. А другие ничего. Да чего там всего было – не перескажешь. А Василь Сергеич, который архитектор, до того осерчал, что уехать хотел. Они его и спрашивают: «Чем трубы закрываются?» А он не знает. А ему и говорят: «Вьюшками, дурак». Вот обиделся, вот до чего. Насилу удержали. Уехать хотел.
– Да, правду-матку, значит, режут, – сказал я.
– Эх, и до чего хорошо слушать, – продолжал Василий. – Что выходит – ну-у. Вот ежели бы все бы так – ну и жисть была бы… А то, верно, никто и не знает правды-то, а живут. Все помалкивают, думают про себя. Но да ведь скажут, когда придет время. Всё скажут. Все узнают правду. Вот как в этой сейчас, в беседке вашей. И до того слушать интересно. И думаешь, что выйдет опосля, неизвестно. Передерутся все али что – не поймешь…
Я подъехал к дому. Только я вылез из тарантаса, как с горькими слезами меня обнял капельмейстер Миша Багровский. Молодой еще совсем человек.
Он, плача, приговаривал:
– Дорогой, милый, умираю, гибну. Моя-то Надечка, моя жена, которой я верил, изменяет мне! – И он мокрыми щеками прилипал ко мне, целуя меня. – Верно, верно, – говорил он затем. – Я не верил. А теперь вот они, – показал он на беседку, – всё объяснили. Всё верно. Всё правда. Чистая правда. Матка-правда. Пропал я. Как я страдаю! А с кем, с кем! Подумайте! С Куплером! Это ужасно… Ее косы завтра же я скальпирую. Завтра!..
– Миша, это же всё пьяные. Что же вы верите, – утешаю я. А сам думаю: «Должно быть, правда».
– Не беспокойтесь, – говорит Миша, падая на траву. – Не утешайте. Я не утоплюсь, не застрелюсь… А у тебя, прелестница, оборву косы… Погоди до завтра.
Вошел в дом. Коля Курин лежит там на тахте без панталон, но в сюртуке.
– Здравствуй, – говорит мне Коля. – Хорошо, что приехал. Черт-те что делается. Все, брат, перепились и переругались. Теперь, кажется, купаться ушли. Ленька и Павел пошли на реку с веревкой, чтобы не утопились.
– А ты что же, Коля, без панталон?
– Без штанов, брат. Крюшоном облили. А потом со всех сняли и спрятали, чтобы не уезжали. Ты представить себе не можешь, что идет. Это Юрий выдумал: суд. Всем правду-матку говорить. Не ходи в беседку, а то судить будут. Что говорят – слушать невозможно. Спрашивают черт-те что.
– А что же?
– Знаешь, так вежливо спрашивают, как на суде. «Скажите, – говорят, – господин Курин, к примеру, пожалуйста, честный вы человек, и не стрекулист, и не стрюцкий[7]?» Ну, подумай, это же обидно. Конечно, твой этот знакомый, как его – забыл, ну, ученый-то – уехал, брат, сейчас же. Обиделся. Он человек идейный, умный, а они прямо лупят – стрекулист.
– А где же мой аквариум? – спросил я вошедшего слугу Калбанова.
– В беседке, – ответил Калбанов. – В нем крюшон разводят. А окуней голубых канадских ваших в реку пустили. Пускай, говорят, у нас разводятся. Икру пущают.
– Что же это делается, – говорю я Калбанову.
– Да-с, – отвечает Калбанов. – И не поймешь, что. Правду вводят. На той стороне реки целого барана жарят. Палку в него продели ну и на костре, значит, пекут. Меня послали за ромом. У него – это про вас говорят – есть ром. Велели принести. Поливать барана, говорят, ромом надо. Трубенталь велел. Народу много глядит. Ну, конечно, все выпивши. По реке хотят ехать в лодке, крутоплавание, узнать, куда река выведет.
– Это черт-те что, – говорит приятель Коля. – Утопятся.
– Ничего, – успокаивает Калбанов. – Народу много. Но только где же им проехать реку – застрянут в осоке. А в Некрасихе на мель сядут беспременно. Граф Трубенталь всем распоряжается. Он ведь моряк был, всё знает. Как и что.
– Он не граф, – говорю я. – И не моряк, а актер.
– Должно быть, граф, – говорит Калбанов. – Велел себя называть так. На станцию посылал за вином, так «граф» подписывался. Но ловко барана жарит. Он веселый, все за него.
– Где панталоны мои? – спрашивает приятель Коля.
– Да, – отвечает Калбанов. – Все сняли друг у друга, а куда девали – не знаю.
– И я не знаю, где. Без штанов-то комары одолевают. Как быть теперь? К вечеру заедят! Никому не выдержать…
Прошло много времени. Приятели мои, которые резали правду-матку в беседке моего сада, почти все умерли. Появились другие люди – серьезные, которые тоже резали правду-матку по всей России. И не стало у меня ни моего дома, ни беседки, ни моего дивного сада. И не слышу я соловья и свиста иволги. И не могу угостить друзей своих крюшоном с земляникой.
Вот она какова – правда-матка-то.
Собаки и барсук
Замечательный народ – охотники, и все они очень разны, но в одном пункте одинаковы – это когда начинаются рассказы про охоту. Так как я тоже был охотник, то, сознаюсь, любил про охоту поговорить. Не знаю, как другие, а я, рассказывая разные случаи, немного привирал. Такая экзажерация находила на меня, чтобы рассказ выходил ярче. Все грешили тем же, и знали все, что привирают, но уж так водилось.
В молодости у меня гостило много охотников и рыболовов. Рыболовы привирали тоже, но умеренно. Только вот когда рыболов показывал, какого размера рыбу поймал, размеры выходили неправдоподобные, и вес тоже: окунь – восемь фунтов, карась – двадцать.
Один такой, скульптор Бродский, царство ему небесное, покойнику, говорил:
– Щуку взял на два пуда шестнадцать фунтов.
– Где?
– На Сенепсе.
– Ну врешь.
А он ничего, не обижается.
Другой мой приятель, гофмейстер, уверял, что на перелете у Ладоги подстрелил гуся в два с половиною пуда. Все слушатели молчали: неловко, всё же гофмейстер. Надо сознаться, что прежде все были как-то скромнее: только помалкивали, не желая обидеть приятеля в большом чине.
Тоже был у меня в молодости друг, мужчина серьезный, охотник Дубинин. Жил он на краю города Вышний Волочёк, в маленьком покосившемся домишке. Любил я его всей душой. Я-то мальчишка был, а он средних лет, худой, лицо всё в складках. Сам вроде как из военных. По весне пускал себе кровь из жил, брил бороду, оставлял только усы, а когда смеялся, то шипел, вроде как гири у часов передвигались. Человек был особенный, наблюдательный, говорил всегда серьезно и всё как-то особенно.
Сижу я у него с приятелем Колей Хитровым в его низенькой лачужке, чай пьем, а у печки в уголке, в соседней комнатушке лежит сука Дианка, и сосут ее пятеро маленьких щенят. Милые, добрые глаза Дианки смотрят на нас. Она – пойнтер. Смотрит мать-собака и как бы говорит – вот вам для утехи родила детей-собак, на охоту ходить будут и стеречь вас будут. И довольна Дианка, что не бросили детей ее в реку, и благодарна.
– Андрей Иванович, – говорю я Дубинину, – дашь мне кобелька от Дианки?
– Чего ж, можно, – подумав, ответил Дубинин. – Молоды вы только.
– А что же?
– Да то. Вот она тварь душевная, за ней тоже внимание обязательно; должно, чтобы она видела к себе его. А ваше дело молодое: ушел, бросил, ну какая тогда жисть ее…
Видим мы – щенки у Дианки как-то засуетились, бросили мать, поползли, и один даже чудно так залаял.
– Глядите, – сказал, встав, Дубинин, – вот что сейчас будет.
Он сел на лавку с нами и сказал:
– Сидите смирно и смотрите. Они прозрели, слепые были, теперь глядят. Вот сидите, они нас увидят, что будет – чудеса!
Мы сидели и смотрели на щенят, а Дубинин потушил папиросу.
– В первый раз они свет увидели и свою мать, ишь, по ней лазают. Гляди, что будет.
Один щенок обернулся в нашу сторону, остановился и смотрел маленькими молочно-серыми глазками, потом сразу, падая, побежал прямо к нам, к Дубинину; за ним другой, и все к Дубинину полезли, на сапог подымались к нему, падали, и всё вертели в радости маленькими хвостами.
– Видишь, что, – сказал Дубинин, – не чудо ли это? Не боятся, идут к человеку, только прозрев, к другу идут и не страшно им. А посмотреть-то на человека – страшен ведь он, на ногах ходит, голый без шерсти, личность, глаза, рот; ушей вроде как нет. И заметьте – они все ко мне, хозяин, значит. Ну-ка, кто им сказал? Вот оно что в жисти есть, какое правильное чудо, а?.. Отчего это? Это любовь и вера в человека, понять надо. А у людёв по-другому: дитя на руках, а другой его поласкать хочет, «деточка, деточка» говорит, а он – нет, в слезы, боится. Вложено, значит, другое: «Не верь!» Не больно хорошо это, значит, знает душа-то, что много горя и слез смертных встретит он потом от друга-то своего, человека…
Надолго остались у меня в душе слова Дубинина. Потом я видел щенят своих собак, и все они, прозрев, тоже бежали ко мне.
Здесь, в Париже, у моего фокса Тоби родились щенята. Увидав меня, они, шатаясь, поползли ко мне, вертя приветливо от радости хвостиками. Мать, увидав это, в беспокойстве таскала их от меня за шиворот обратно в уголок, где родила их. Но фоксы не унимались, лезли ко мне. Спустя некоторое время мать просто утром принесла их всех по одному на постель ко мне – решила, чтобы вообще всем вместе быть и спать. Пришел и отец, Тоби…
Какие милые существа – собаки. Маленькое сердце щенка, как горошина, полно любви к человеку и такта. Тоби-отец не обращает внимания на детей – их воспитывает мать, – но, видимо, он рад, что есть у него семейство. Когда щенята подросли, мать кусала и дразнила их всех по очереди ужасно, и они в злобе бросались на мать. Видимо, она была довольна.
– Этак она из них собак делает, – объяснил мне приятель, – чтобы могли себя защитить в жизни.
– А вот, – рассказывал мне когда-то Дубинин, – у меня ручной барсук был, ну и затейник! До того ко мне привык, прямо не идет от меня, но погладить если его захочешь – кусается. Кусается не дай Бог как, зубы – беда. Что же вы думаете, какой это зверь? Человеку он ничего не верит и собаку мою – сеттерок такой был у меня, – заметьте, испортил вот как. Значит, живет это он у меня и всё себя чистит: такой чистюга, как кошка, ну вот прямо барин.
Сделал он себе нору под крыльцом, вот тут, – показал Дубинин на дверь, – и всё туда тащит, и у собаки ворует, и всё себе. Поглядел это я в его нору без него, чудеса прямо: в норе-то вроде комнаты, чисто, и полки из земли, и лежат там чередом, как в овощной лавке, орехи и баранки, мятный пряник и хлеб, и лекарство мое в капсюльках. Я-то думаю – куда лекарствие делось, а он своровал. И тащит он всё крадучи, а показывает, будто ест.
Так вот, собака у меня была, сеттерок, он у барсука и перенял всё тащить себе, тоже прячет под сарай, всё носом зарывает на случай – не верит человеку, что прокормит его, не надеется. Вот он ей, собаке, какое в душу горе вложил! Сказал, значит, – не надейся на человека, он тебя с голоду уморит, погоди. И заметьте – собака Трезор другая стала, скушная. Вот этот какой сукин сын барсук был!
Я сам думать стал, тоже смотрю, хотел рубашку сшить, нет, думаю, погожу, ситец припрятал. Стучит прохожий в окно, Христа ради, значит, просит. Так бывало, дашь краюху, а вспомнишь барсука – жалко станет: говорю – Бог подаст.
– Барсукам без этого никак нельзя, это они на зиму запасаются, а то с голоду помрут, – заметил мой приятель Коля Хитров.
– Да, это правильно, – согласился рассеянно Дубинин. – Им никак нельзя, тварь такая. На Бога надейся, а сам не плошай. Как у людёв. Я сам стал подумывать о себе: жизнь моя бедная, домишка плохой. Что я – одинокий, помрешь один, вот заболеть боюсь, кто собаку прокормит, кому она попадет – бить будут. Охотой как прожить? По зиме-то худо, зайцев не всегда возьмешь. Один трактирщик и говорит мне: «Вот, Андрей, барыня, генеральская дочь, велела тебе, чтоб тетеревов достал, настреляй, значит». Ну, ходил я очень много, чуть не замерз – зимой-то трудно, – принес барыне тетеревов. Она меня встретила, нарядная такая, красивая, и говорит: «Чего это вы принесли большие такие? Мне маленьких птичек надо». «Каких, – спрашиваю, – сударыня?» «Ну как – каких. Рябчики, кажется, называются». Вот и поди, как быть?..
Да вот я слыхал от господ охотников, что есть такой Тургенев. Любил он нашего брата, охотников простых. Читал мне Ермолай, был такой. Про нас книжку составил, Тургенев-то. Я плакал, когда читали, хороша книжка, – сказал Дубинин и задумался.
И мы тоже тогда, неизвестно почему, задумались.
Наступили сумерки. Вдали сквозь серое небо светила красная полоска зари. Дианка оставила щенят, подошла к нам и ласково глядела. Дубинин покрошил хлеб в черепок и налил молока.
– Есть хочет, кормить детей надо, – приговаривал он. – Тоже пяток их, засосут.
Мы погладили Дианку, она опять ушла в уголок к щенятам. Как всё просто и понятно и как нужно!..
К окошку подошла женщина и постучала в стекло. Дубинин открыл половинку окна и протянул руку с краюхой хлеба.
– Благодарю, – сказала женщина, – я спросить хотела, где здесь Дубинин живет.
– Я самый, – ответил Дубинин.
– Вот-вот, – обрадовалась женщина, – живу-то я одна-одинешенька у водохранилища. Сказывали мне, что сука у вас ощенилась, мне бы одного дали, всё поваднее жить, вроде как дитя будет. А то одна, все померли, сына вода отняла по весне.
– Ладно, матушка, – сказал Дубинин, – приходите через недельку, а то малы больно.
Женщина развернула платок, вынула просфору, подала Дубинину и ушла.
– Эти-то, Дианки-то, щенки ей не годятся, – сказал Дубинин после ее ухода, – что же им со старухой жить; они охотники. Я ей найду, есть этакие-то, которые ее сторожить будут, прелюбезные. – И Дубинин тихо рассмеялся.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Примечания
1
Гонобобель (местн.) – голубика.
2
«Будем любить» (лат.).
3
Стилизация под латынь: genium aquaticus – «водяной дух».
4
Пюргатив (мед., от латинского purgativus – очистительный) – слабительное средство, пурген.
5
Гениум – натуральные лекарственные средства для улучшения работы мозга.
6
Хипесница (жарг.) – проститутка, занимающаяся кражей денег у пришедших к ней посетителей.
7
Стрюцкий (устар., прост.) – подлый, дрянной, презренный.









