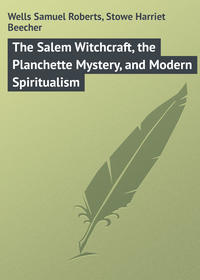Полная версия
Агнесса из Сорренто


Гарриет Бичер-Стоу
Агнесса из Сорренто
Harriet Elizabeth Beecher Stowe
AGNES OF SORRENTO
© С. Ардынская, перевод, 2024
© Издание на русском языке. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2024
Издательство Азбука®
Глава 1
Старый город
Косые лучи закатного солнца падают на древние ворота Сорренто, превращая в золотистую бронзу бурые каменные ризы статуи святого Антония, который, со своей массивной митрой и воздетыми дланями, вот уже столетия оберегает город.
Там, в вышине, в золотистом итальянском небе, он, застывшим жестом вечно благословляющий обитателей Сорренто, пребывает в тишине и покое, а тем временем из года в год оранжевые лишайники и зеленые мхи, пробиваясь из всех швов, усыпают причудливыми узорами его священнические одеяния, маленькие пучки травы непрошено украшают кисточками и фестонами складки его облачения, цветущие гроздья какого-то дерзкого растения золотистым дождем низвергаются из широких обшлагов его рукавов. Маленькие птички усаживаются на него, словно на насест, чирикают и беззаботно отирают клювики то о кончик его носа, то о навершие его митры, а раскинувшийся у подножия его статуи мир занимается своими делами, как и в те дни, когда жил добрый святой, разуверившийся в человечестве и потому принявшийся проповедовать птицам и рыбам.
Кто бы ни проходил под аркой этих старинных ворот, неусыпно хранимых святым, мог увидеть в их тени сидящую напротив прилавка с золотистыми апельсинами маленькую Агнессу.
Она являла собой весьма привлекательное зрелище, читатель, со своим личиком, напоминающим те образы, что встречают нас на стенах маленьких придорожных часовен солнечной Италии, где возжигают по вечерам бледную лампаду, а по утрам убирают алтарь свежими левкоями и цикламенами.
Пожалуй, ей уже исполнилось пятнадцать, но она была так мала ростом, что до сих пор казалась ребенком. Ее черные волосы разделял безупречно ровной белой линией пробор, сбегавший до высокого выпуклого лба, который сообщал всему ее облику серьезное выражение и говорил о склонности к размышлениям и молитве, подобно тому как дверь собора возвещает о совершаемых за нею христианских таинствах. Из-под высокого чела устремляла она на мир взор карих прозрачных глаз, задумчивые глубины которых напоминали воды какого-нибудь святого источника, прохладные и чистые, столь не замутненные, что сквозь толщу их различим даже ничем не запятнанный песок на его дне. Над маленьким ее ртом виднелась небольшая ямка, свидетельствующая о сдержанной страстности, в то время как прямой нос и изящно вырезанные ноздри своим совершенным очерком приводили на память те фрагменты античных статуй, что так часто исторгает из себя итальянская земля, таящая в недрах своих множество древних гробниц. Обыкновенно Агнесса держала головку и поднимала глаза с застенчивой грацией, присущей тянущейся ввысь фиалке, однако лицу ее было свойственно выражение одновременно серьезное и безмятежное, заставляющее предположить в ней незаурядную силу характера.
В описываемое мгновение ее пригожая головка потуплена, а тень от опущенных длинных ресниц падает на бледные гладкие щеки, ведь в Соррентийском соборе бьет колокол, призывающий на молитву «Аве Мария», и девочка сосредоточенно перебирает четки.
Рядом с нею сидит женщина лет шестидесяти, высокая, величественная, широкоплечая, широкобедрая и полногрудая, как большинство крепких, дюжих соррентийских кумушек. Крупный римский нос, решительно сжатые губы и энергия, читающаяся в каждом движении, выдают в этой пожилой матроне несокрушимую уверенность в себе и целеустремленность. А при звуках вечернего колокола она откладывает веретено и склоняет голову, как полагалось в те дни доброй христианке, но, впрочем, и тут выказывая бодрость и решительность.
Но если душа девочки, свежая и невинная, словно майское утро, не изнывающая под гнетом повседневных забот и даже не помышляющая об этом докучливом бремени, возносилась в молитве к небесам, точно освещенное солнцем легкое облачко, то в молитву, что твердила седовласая матрона, вплелась, как дурная нить в чистую ткань, мирская расчетливость: она мысленно возвращалась к тому, сколько продала апельсинов, и прикидывала, какую прибыль получит за день, пальцы ее на миг оторвались от четок и скользнули в глубокий карман, проверяя, спрятала ли она последнюю монету с прилавка, а когда она святотатственно подняла глаза, решив проследить за пальцами, то внезапно заметила стоящего у ворот красивого кавалера, который рассматривал ее пригожую внучку с неприкрытым восхищением.
«Пусть глядит на здоровье! – сказала она себе, с мрачным видом хватая четки. – Хорошенькое личико привлекает покупателей, а наши апельсины надобно обратить в барыш; но тот, кто посмеет не только разглядывать, будет иметь дело со мной, а потому отвернись, барчук, и вместо того, чтобы глазеть на мою овечку, купи-ка лучше апельсинов! Ave Maria! ora pro nobis, nunc et…»[1] и т. д. и т. д.
Прошло еще несколько мгновений, и молитва, волной хлынувшая на эту странную, сумрачную старую улицу и пригнувшая все головы до единой, подобно тому как пригибает ветер алые головки клевера на соседнем поле, стихла, и обитатели ее вернулись к своим тщетным земным мирским делам, возобновив именно там, где прервали их при первых ударах колокола.
– Добрый вечер, красавица! – сказал кавалер, подходя к прилавку торговки апельсинами с непринужденным, самоуверенным видом покорителя сердец, не сомневающегося в легкой победе, и устремляя на все еще молящуюся девицу пронзительный взгляд зеленовато-карих глаз, которые вместе с орлиным носом придавали ему сходство с горделивой, надменной хищной птицей. – Добрый вечер, красавица! Если не поднимешь ресницы, то мы примем тебя за святую и ревностно будем почитать.
– Господин! Мессир! – проговорила девица, и тут ее гладкие щеки залил яркий румянец и она вскинула на кавалера большие мечтательные глаза.
– Агнесса, опомнись! – упрекнула ее седовласая матрона. – Господин спрашивает тебя о цене апельсинов. Да проснись же, дитя!
– Ах, мессир, – пролепетала девица. – Вот дюжина отменных.
– Что ж, их я и куплю, красавица, – заключил молодой человек, небрежно бросив на прилавок золотой.
– Агнесса, сбегай разменяй его у Рафаэля-птичника, – не растерялась кумушка, схватив золотой.
– Нет, матушка, – нисколько не смущаясь, возразил кавалер. – Сдачу я возьму юностью и красотой.
И с этими словами он склонился и поцеловал красавицу прямо в лоб.
– Стыдитесь, сударь! – воскликнула пожилая матрона, воздев прялку и сверкая глазами из-под серебристых волос, словно метая молнии из белой нахмурившейся тучи. – Не забывайтесь! Это дитя названо в честь блаженной святой Агнессы и пребывает под ее защитой и покровительством.
– Пусть святые молятся за нас, когда мы забываемся, очарованные их красотой, – с улыбкой ответил кавалер. – Погляди же на меня, малютка, – добавил он. – Скажи, ты будешь за меня молиться?
Девица подняла на него большие серьезные глаза и посмотрела на надменное красивое лицо взглядом торжественным и вместе с тем любопытным, иногда свойственным маленьким детям, и румянец медленно сошел с ее щек.
– Да, мессир, – отвечала она просто и спокойно. – Ябудуза вас молиться.
– И повесь это от моего имени в часовне святой Агнессы, – добавил он, снимая с пальца и опуская ей на ладонь брильянтовый перстень, и, прежде чем бабушка и внучка смогли произнести хоть слово и опомниться, он перекинул край плаща за плечо и удалился по узкой улочке, напевая себе под нос какую-то веселую песню.
– Этой арбалетной стрелой ты сразил хорошенькую голубку, – заметил другой кавалер, который, по-видимому, тайком наблюдал всю эту сцену, а теперь вышел из своего укрытия и присоединился к приятелю.
– Похоже на то, – небрежно отвечал первый.
– Старуха держит ее как певчую птичку в клетке, – продолжал второй, – и если кто-нибудь захочет обменяться с ней словечком, рискует получить по макушке, ведь рука у престарелой матроны Эльзы сильная, а прялка, как всем известно, тяжелая.
– Во имя всех святых, – воскликнул первый кавалер, останавливаясь и оглядываясь, – да где же ее прячут?
– В каком-то голубином гнезде над ущельем, но увидеться с ней невозможно, разве что рискуя навлечь на себя громы и молнии, которые будет метать ее злобная бабка. Малютку воспитали в строгости и благочестии, предназначая для монашеского поприща, и никуда не пускают, кроме как к мессе, на исповедь да к причастию.
– Гм… – откликнулся кавалер. – Она и вправду похожа на Святую Деву, как ее изображали на самых изящных старинных картинах. Когда я поцеловал ее в лоб, она взглянула мне в глаза серьезно и невинно, словно дитя. Какое искушение свести с ней знакомство поближе!
– Берегись бабкиной прялки! – со смехом предостерег другой.
– Видал я сварливых старух, меня не запугаешь, – заверил кавалер, и тут они завернули за угол и скрылись из виду.
Тем временем бабушка и внучка очнулись от безмолвного потрясения, с которым они глядели вслед молодому кавалеру, заслышав у себя за спиной хихиканье; чьи-то сияющие глаза воззрились на них из-под целого пука темно-розового, с длинными стеблями клевера, глубокие карминные тона которого казались еще более насыщенными и яркими в лучах закатного солнца.
Перед ними предстала Джульетта, главная кокетка среди соррентийских девиц, со своими широкими плечами, полной грудью и большими черными, с поволокой, выразительными очами, весьма напоминающими глаза того серебристо-белого вола, которому и предназначался нарезанный ею клевер. На ее бронзовых щеках, гладких, как у мраморной статуи, играл румянец, цветом под стать разломленному гранату, а ее пышные формы, медлительность движений и самая томность всего облика свидетельствовали о нраве спокойном и покладистом, каковой она проявляла, во всяком случае, пока ей угождали, ведь надобно заметить, что в глубине ее прекрасных глаз таились искорки, которые иногда могли обратиться сверкающими молниями, подобно ее родным итальянским небесам, прелестным и безмятежным, но готовым в один миг омрачиться, нахмуриться, разгневаться и обрушить на голову смертных ужасную грозу, если только придет им такая причуда. Впрочем, сейчас, когда она с озорным видом ущипнула Агнессу за ухо, на лице ее читались лукавство и веселье.
– Выходит, с тем прекрасным кавалером ты не знакома, сестрица? – спросила она, искоса поглядывая на Агнессу из-под длинных ресниц.
– Конечно нет! К чему честной девушке знаться с прекрасными кавалерами? – отвечала достойная матрона Эльза, энергично принявшись собирать непроданные апельсины в корзинку и аккуратно закрывая ее тяжелым льняным полотенцем, собственноручно ею сотканным. – Девицы, которые бесстыдно глазеют на все что ни попадя и только и болтают что о повесах, буянах да распутниках, скверно кончают. Агнесса об этих глупостях и знать не знает, хвала ее милостивой святой заступнице, Пресвятой Деве и святому Михаилу!
– По мне, нет большой беды в том, чтобы знать, что у тебя перед глазами, – возразила Джульетта. – Мессира Адриана только слепцы да глухие не знают. Его знают все девицы в Сорренто. Говорят, он еще знатнее и могущественнее, чем кажется, что он брат самого короля, а потом – кавалера красивее, храбрее и любезнее и не сыскать!
– Ну и пусть водит дружбу с такими же знатными повесами, – отвечала Эльза. – Орлы в голубятнях только разбой чинят. От таких кавалеров добра не жди.
– Но и горя никакого вам от них не было, и мне уж точно о таком слушать не доводилось, – промолвила Джульетта. – Но дай-ка мне взглянуть, что он тебе подарил, красавица! Матерь Божья, какой чудесный перстень!
– Это чтобы я повесила его в часовне пред ликом святой Агнессы, – простодушно и бесхитростно произнесла младшая девица, поднимая глаза.
Ответом ей поначалу стал взрыв смеха. Карминные головки клевера качались и трепетали с каждым приступом хохота.
– Повесила в часовне пред ликом святой Агнессы! – повторила Джульетта. – А не слишком ли это будет роскошный дар?
– Ну, будет, будет, озорница! – воскликнула Эльза, гневно размахивая веретеном. – Если выйдешь когда-нибудь замуж, надеюсь, муженек станет тебя поколачивать! Это тебе только пойдет впрок, клянусь! Вечно болтаешься тут на мосту да шутками перебрасываешься с молодчиками! О святых-то ты ничего не знаешь, как я посмотрю! Вот и держись подальше от моей девочки! Пойдем, Агнесса, – велела она, поднимая корзинку с апельсинами на голову, и, выпрямившись во весь свой величественный рост, схватила девицу за руку и повела прочь.
Глава 2
Голубятня
Старый город Сорренто располагается на возвышенном плато, простирающемся до солнечных вод Средиземного моря и защищенном со всех сторон горной грядой, которая оберегает его от холодных ветров и служит неким подобием стены, окружающей его, словно сад. Апельсиновые и лимонные рощи, где, точно в сказке, почти одновременно распускаются цветы и созревают плоды, наполняют здесь воздух изысканным благоуханием, к которому примешивается аромат роз и жасмина, а поля усыпает такое множество ярких, разноцветных, напоминающих звезды цветов, что древние поэты, воспевая Элизиум, верно, думали именно о соррентийских окрестностях. Зной ослабляют постоянно веющие морские бризы, придающие чудесную мягкость местному климату, который иначе показался бы слишком жарким. В подобных благоприятных условиях человек развивается свободно и обретает физический облик, равного которому по красоте, стройности и изяществу не сыскать в столь неприветных местностях. Горные предместья Сорренто представляют собой край, где красота есть не исключение, а правило. Здесь вы редко встретите человека, лишенного благообразия, – напротив, часто попадаются люди весьма привлекательные. Возьмите едва ли любого здешнего мужчину, женщину или ребенка – и вы убедитесь, что они почти всегда наделены в какой-то мере милыми, пригожими чертами, и даже поразительная красота в этих краях – обычное зрелище. Кроме того, люди под этими безоблачными небесами нередко обнаруживают прирожденную любезность и мягкость манер. Кажется, будто человечество, взлелеянное в этой цветущей колыбели и взращенное в непрерывной холе, нежности и заботе участливой Природой, получило здесь в дар все возможные внешние блага, которых столь часто бывают лишены обитатели суровых северных краев, выросшие под неприветливыми, ненастными небесами.
Сам небольшой городок Сорренто примостился над морем, окаймляемый прибрежными утесами, а те, усеянные там и сям живописными гротами и утопающие в густой, пышной поросли ярких цветов и ползучих, стелющихся лоз, образуют над водой отвесные обрывы. Бродя по усыпанной раковинами полосе прибрежного песка, здесь можно насладиться прелестнейшим в мире зрелищем. Взору созерцателя открывается вид на Везувий, вздымающийся на фоне небес, с его двумя вершинами, мягко окутанными сине-фиолетовой дымкой, которая сливается с поднимающимися из его жерла парами, и на Неаполь с окрестными деревнями, лежащими у подножия вулкана и поблескивающими вдали, словно жемчужная кайма на королевской мантии. Ближе к наблюдателю живописные скалистые берега острова Капри, кажется, трепещут, проступая сквозь призрачную, дрожащую пелену тумана, обволакивающую их со всех сторон, а море сверкает и переливается, точно павлинья шея, на которой, как на радуге, чудесные цвета сменяют друг друга: самый воздух здесь словно облагораживает бытие, расцвечивая его яркими, волшебными оттенками.
Город с трех сторон отрезан от материка ущельем двухсот футов в глубину и сорока-пятидесяти – в ширину, перейти которое можно по мосту, опирающемуся на две арки и возведенному еще во времена древних римлян. Мост этот представляет собой излюбленное место, где собираются праздные соррентийцы, и по вечерам здесь можно увидеть пеструю толпу, лениво облокотившуюся на поросший мхом парапет: мужчин в живописных вязаных алых или коричневых колпаках, изящно свисающих на одно плечо, и женщин с блестящими черными волосами, в огромных жемчужных серьгах, которые с гордостью передаются в семье по наследству из поколения в поколение. В нынешние дни путешественник, прибывший в Сорренто, может вспомнить, как стоял на этом мосту, глядя вниз, в мрачную глубину ущелья, где прекрасная вилла, окруженная апельсиновыми рощами и садами, повисла над неизмеримой бездной.
Несколько веков тому назад там, где ныне выстроена вилла, стояло простое жилище двух женщин, историю которых мы уже начали излагать вам. Здесь вы могли увидеть маленький каменный домик с галереей у входа, состоящей из двух арочных проемов; своей сверкающей белизной он выделялся на фоне сумрачной, тенистой листвы апельсинового сада. Это жилище было втиснуто, как скворечник, меж двух скал, а позади него вздымался горный склон, каменистый, высокий и отвесный, образующий тем самым естественную стену. Здесь словно парил в воздухе маленький уступ или терраса возделанной земли, а под нею, уходя в Соррентийское ущелье, разверзалась пропасть двухсот футов глубиной. Десятка два апельсиновых деревьев, высоких и прямых, со здоровой, поблескивающей корой, поднялись здесь на плодородной, щедро удобренной вулканическим пеплом черной почве, отбрасывая своей листвой на землю тень столь густую, что ни одно растение, кроме мягкого бархатистого мха, не могло оспаривать их притязания на таящиеся в ее недрах питательные соки. Эти деревья представляли собой единственное достояние женщин и единственное украшение их сада, однако, склонявшиеся под бременем не только золотистых плодов, но и жемчужно-белых цветов, они превращали крохотный каменистый уступ в истинный сад Гесперид[2]. Как мы видели, перед входом в каменный домик проходила открытая беленая галерея, откуда можно было заглянуть в мрачные глубины ущелья, подобие таинственного подземного мира. Странным и зловещим представало оно взору, со своим бездонным сумраком и дикими гротами, над которым безмолвно покачивались длинные плети плюща, в то время как из трещин меж скал воздымали рогатые головы мрачные серые побеги алоэ, словно демоны, силящиеся проникнуть в земной мир из царства вечной тени. Не было здесь недостатка и в цветах, придававших уединенному жилищу столь обычный для этих мест нежный поэтический облик, ведь над черной пустотой, подобно бледной принцессе, глядящей из окна темного зачарованного замка, склонялся призрачный венчик белого ириса, а в непрерывно скользящих лучах солнца покачивались и поблескивали алая герань, золотистый ракитник и фиолетовый гладиолус. К тому же очарование этого крохотного клочка возделанной земли создавалось и еще одной деталью, без которой не обходятся итальянские сады: его оглашало сладостное пение и лепет вод. Рядом с маленьким домиком пробивался из толщи утеса прозрачный горный источник, стекая с убаюкивающим журчаньем в причудливую, поросшую мхом чашу, представлявшую собой древнеримский саркофаг, извлеченный из какой-то гробницы. По бокам его украшало множество фигур, лиственных узоров и арабесок, среди которых, безмолвно проникнув, обосновались и так разрослись коварные лишайники, что кое-где уничтожили первоначальный облик мраморного творения, а вокруг того места, куда падала вода, трепетала в такт ее утешительному лепету пелена папоротников и адиантумов, усеянных дрожащими серебристыми каплями. Лишняя вода, отведенная поодаль в маленькую канавку, направлялась через отверстие в каменной ограде за пределы сада, откуда с мелодичным журчаньем тонкой струйкой сбегала вниз, падая с утеса на утес, непрерывно капая на покачивающиеся листья папоротника и висящие над бездной плети плюща, пока не вливалась в небольшой ручей у подножия ущелья. Эта каменная ограда, защищающая сад, была выстроена из блоков или отдельных фрагментов некогда белого мрамора, возможно из останков той же древней гробницы, где некогда покоился упомянутый саркофаг. Там и сям мраморный лист аканта, капитель древней колонны или чья-то мраморная рука пробивались из-под толщи мхов, папоротников и трав, которыми капризная Природа наполнила каждую щелочку и заткала, словно ковром, всю землю. Эти обломки скульптур повсюду в Италии словно бы шепчут из праха о жизни, ушедшей навсегда, о воцарившейся теперь смерти, о круге человеческого существования, исчезнувшего безвозвратно, о тех, над чьей могилой новые поколения строят новую жизнь.
– Сядь, отдохни, голубка моя, – сказала престарелая матрона Эльза своей маленькой воспитаннице, когда они вошли в свой крохотный дворик.
Здесь она впервые заметила то, что ускользнуло от ее внимания в пылу и в спешке, с которой они поднимались в гору, а именно что девушка запыхалась, что нежная грудь ее вздымается и опадает с каждым учащенным вздохом и что ей не следовало столь стремительно увлекать внучку за собой.
– Сядь, милая моя, а я приготовлю тебе что-нибудь на ужин.
– Да, бабушка. Мне надобно помолиться по четкам о душе того красивого господина, что поцеловал меня в лоб сегодня.
– А откуда ты знаешь, что он красивый, дитя? – довольно резко спросила старая матрона.
– Он попросил меня взглянуть на него, бабушка, вот потому я и знаю.
– Выкинь такие мысли из головы, – велела старая матрона.
– Почему? – спросила девушка, поднимая на Эльзу глаза ясные и невинные, точно у трехлетнего дитяти.
«Если она ни о чем таком и не помышляет, зачем мне ее смущать?» – подумала старая Эльза, поворачиваясь, чтобы уйти в дом, и оставив девочку на поросшем мхом каменном парапете, выходящем на ущелье. Отсюда перед ней открывался вид на широко раскинувшиеся окрестности: не только на темную, мрачную бездну, но и далее, туда, где голубые воды Средиземного моря, нынче тихие и спокойные, простерлись чередой разноцветных лент, фиолетовой, золотистой и оранжевой, а дымное облако, окутывавшее Везувий, окрасилось серебристо-розовым в вечернем свете.
На душу человека, оказавшегося высоко в горах, почти всегда нисходит ощущение причастности чему-то возвышенному и чистому. Он чувствует свое превосходство над миром, моральное и физическое, и может, находясь на вершинах, где самый воздух необычайно чист, глядеть на земную суету спокойно и отрешенно. Наша героиня несколько мгновений сидела, устремив в пустоту взгляд больших карих глаз, расширившихся и трепетно поблескивающих, будто готовых вот-вот наполниться слезами, и чуть приоткрыв губы с детской серьезностью, словно предаваясь каким-то приятным размышлениям. Внезапно очнувшись, она стала обрывать с отягощенных золотистыми плодами древесных ветвей самые свежие цветы, а потом, целуя и прижимая их к груди, убирать уже увядшие, собранные утром, которые украшали маленький, грубо вырубленный в скале алтарь, в рукотворной нише над которым, за запертой стеклянной дверцей, помещался образ Святой Девы с Младенцем. Картина эта представляла собой удачный список одного из прекраснейших образцов религиозного искусства флорентийской школы, выполненный одним из тех крестьянских копиистов, которые наводняли Италию, которые инстинктивно проникли в самую суть творчества и которым мы обязаны многими из тех чудесных ликов, что взирают на нас на обочинах дорог с самых грубых, доморощенных алтарей.
Бедного живописца, создавшего эту Мадонну, несколько лет тому назад старая Эльза приютила и кормила много месяцев во время тяжелой болезни, а он, умирая, вложил в этот образ столько души и сокровенных надежд, что сумел наделить его особой яркостью и живостью, непосредственно воздействующей на чувства созерцателя. Агнесса знала этот образ с раннего детства. Не проходило ни дня, чтобы она не поменяла пред этим алтарем украшавшие его цветы. Казалось, будто Святая Дева с сочувственной улыбкой взирает на ее детские радости и, напротив, лик Ее затуманивается, когда она глядит на ее детские беды. Агнесса воспринимала этот образ не столько как картину, сколько как живое, непосредственное присутствие Богоматери, словно освящавшее самый воздух маленького апельсинового сада. Убрав алтарь цветами, она преклонила колени и стала молиться о душе молодого кавалера.
– Господи Иисусе, – произнесла она, – он молод, богат, хорош собой и приходится братом королю, и оттого дьявол может подвергнуть его искушению забыть Бога и обречь свою душу на гибель. Матерь Божья, ниспошли ему мудрости!
– Пойдем, дитя, пора ужинать, – позвала ее старуха Эльза. – Я подоила коз, все готово.
Глава 3
Ущелье
После легкой трапезы Агнесса взяла прялку, на которую был намотан сияющий белоснежный лен, и отправилась на свое любимое место, на низкий парапет, откуда открывался вид на ущелье.
Эта пропасть, с ее пугающей глубиной, с колеблющейся над нею древесной листвой, с непрерывной капелью и с тихим журчанием ручья, пробегающего по дну, возбуждала ее впечатлительное воображение и наполняла душу торжественным, смутным восторгом. Древнее итальянское предание уверяло, что здесь обитают фавны и дриады, духи леса, занимающие некое промежуточное положение между миром растений и разумным, мыслящим человечеством. Более серьезная вера, которую принесло с собой христианство, хотя и даровала своим адептам более светлое, чем известное язычеству, представление о бессмертии души и вечном блаженстве, открыла для них, однако, и более мрачные стороны бытия, заставив глубже осознать природу греха и зла, а также той борьбы не на жизнь, а на смерть, пройдя через которую человеческому духу только и под силу избежать бесконечных страданий и достичь бесконечного совершенства. В прозрачном итальянском воздухе в Средневековье уже не роились те мифические создания, грациозные, легкие и невесомые, почти призрачные, вроде украшающих древние стены помпейских вилл, эфемерные, радостные порождения человеческой фантазии, бесцельно, ликующе плывущие куда-то вверх, точно мыльные пузыри, или на миг возникающие перед взором созерцателя, точно радуга, наделенные неистощимой животной энергией, но обреченные на абсолютное, безнадежное неведение прошлого и будущего человечества. Ничем более не напоминали прежних мифических существ пришедшие им на смену образы торжественных, мрачных, скорбных ангелов, или святых во славе, или ужасающих, отвратительных бесов, призванных служить предостережением нераскаявшимся грешникам. В каждом уединенном ущелье или тенистой долине передавали теперь из уст в уста рассказы не о лукавых фавнах и дриадах, а о неупокоенных, блуждающих демонах, которые, утратив блаженство бессмертия, вечно подстерегают слабых, легко поддающихся соблазну людей, тщась обмануть их и лишить несравненного наследия, обретенного страданиями Искупителя.