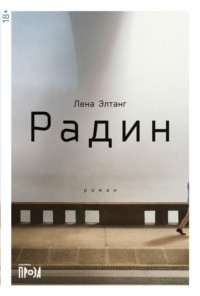Полная версия
Царь велел тебя повесить
Я никогда не задумывался о мужской красоте, пока не увидел Лютаса, я вообще думал, что красота – это то, что бывает у взрослых женщин и у старинных вещей. Весь остальной мир я делил на то, что выглядит мерзко, и то, что можно потерпеть.
Когда я увидел Лютаса в первый раз, то подумал, что это девчонка: слишком уж ловко сидели на нем джинсы, слишком светлой была кожа, да и волосы были подозрительно чистыми. В тот же вечер мы подрались, и он оказался крепче и свирепее меня, даже зубы в ход пустил. Помирившись, мы совершили справедливый обмен: я дал ему рамку с четырьмя бражниками, а он мне – гнездо славки, выложенное конским волосом.
Мы звали друг друга бичулис, с литовского это переводится как «приятель», но не только: так называют друг друга пасечники, владеющие общими пчелами. Бите означает «пчела», у моего двоюродного деда на хуторе их было видимо-невидимо. После дедовой смерти его дряхлый бичулис с соседнего хутора сразу пришел за ульями, постучал по ним палкой и сообщил, что забирает их на свою пасеку, мол, так по традиции положено.
Когда я сказал, что провалился на филфак и поступил на исторический, Лютас даже не удивился, похоже, он не видел разницы между лингвистом и медиевистом. Они с Габией целыми днями пропадали на городском пляже, где был ларек с чешским пивом: пиво остужали, опуская бутылки в авоське в речную воду.
Иногда Лютас звал меня с собой, и я не отказывался, хотя валяться на одеяле рядом с Габией, затянутой в тесный купальник, было выше моих тогдашних сил. У меня мутилось в глазах каждый раз, когда она открывала рот, чтобы сунуть за щеку леденец. Теперь-то я знаю, что греческое χάος имеет общий корень с глаголом «разевать» – неважно что, девичий рот или пасть звериную.
В пятом классе мой друг затеял угнать антикварный соседский «виллис», давно дразнивший нас сиденьями из потертой рыжей кожи, похожими на чемоданы из шпионского фильма. Лютас забрался внутрь и завел мотор, а я стоял на стреме. Мы катались до утра, доехали до Тракайского озера, где мотор всхлипнул в последний раз и заглох, пришлось возвращаться в город ранним автобусом, полным старушек с корзинками; в корзинках виднелись свекольная ботва и молодые шершавые огурцы.
В полдень хмурый сосед позвонил в нашу дверь, поговорил с матерью, и она закрыла меня до вечера в чулане, где с потолка спускалась лампочка на сорок ватт. Обыскав все как следует, я нашел на антресолях пачку бухгалтерских книг в проеденных мышами переплетах. К одному из гроссбухов был привязан химический карандаш на веревочке, совсем целый.
Я сел на стул, вырвал из тетради исписанный синими цифрами листок и начал сочинять рассказ о двух мальчишках, угнавших генеральскую машину, добравшихся на ней до Варшавы и гуляющих там с паненками по кофейням. Часам к восьми вечера я извел карандаш и принялся искать что-нибудь съестное. Потянув коробку с консервами с верхней полки, я обрушил на себя тяжелую залежь холщовых мешков, поднял тучу пыли и закашлялся.
– Это кто там шебуршит? – строго спросили за дверью. – Уж не вор ли забрался?
Я узнал голос доктора Крейвиса, любовника матери, обрадовался и подал голос, надеясь, что он сходит за ключом. Но не успел я закончить фразу, как раздался глухой звук, будто ударили ногой по плохо надутому мячу, дверь открылась, и Крейвис возник на пороге, белея в сумерках своим безупречным халатом.
– Ты что здесь делаешь? В индейцев играешь?
– Меня мать закрыла. – Я сунул листки с рассказом за пазуху и быстро протиснулся мимо него.
– Закрыла? Дверь-то не заперта! Ишь послушный какой. Я бы давно удрал, будь я на твоем месте.
Ну нет, думал я, сбегая по лестнице, только не на моем месте. С доктором я бы не стал меняться местами, от него пахло разведенным спиртом и дегтем, а недавно он купил себе «трабант» и теперь проводил воскресенья, разглядывая его усталые внутренности. К тому же, будь я доктором, мне пришлось бы, чего доброго, полюбить мою мать.
* * *Вещи обманывают нас, ибо они более реальны, чем кажутся, писал Честертон. Настоящие вещи живут в скрытой возможности, а не в свершении, вроде пачки бенгальских огней или пакетика семян.
Отбери у меня возможность погружать пальцы в клавиши и водить глазами по буквам, и я с ходу погружусь в кипяток действительности, как те крабы, что водятся в мутной воде у портового причала возле кафе «Алмада». Раньше их ловили прямо с веранды кафе, отрывали клешни и бросали обратно в воду. А клешни варили в чане с кипятком.
Стоит мне завидеть свою сноровистую кириллицу, черных жуков на светящемся поле, как у меня отрастают клешни, и я оживаю, соскальзываю в воду и боком, боком ухожу на свое придуманное дно. Существуем только я и кириллица, латинские буквы недостаточно поворотливы, они цепляются за язык, будто гусиное перо за пергамент, русский же лежит у моей груди, в особенной впадине диафрагмы, к ней мужчины прижимают чужое дитя, пока мать отошла в парадное подтянуть чулок: прижимают крепко, держат неловко, но с пониманием.
На четвертый день меня вызвали к Пруэнсе во второй раз, и я готов был поцеловать ему ботинок за то, чтобы мне вернули компьютер, хотя бы на пару дней.
– Вы признаете свою вину, – произнес он, и я увидел эту фразу в воздухе между нами будто всплеск серпантина. Вопросительного знака я не увидел: либо у следователя не было ко мне вопросов, либо он знал все ответы наперед.
Что до меня, то я так долго ждал вызова в этот кабинет, что готов был говорить о чем угодно: о Реконкисте, о ценах на бензин, о новом тренере лиссабонской команды. Однако Пруэнса замолчал и принялся заполнять какие-то пробелы в моем досье, а я получил возможность его рассмотреть. Для полицейского он был слишком выразителен: яркие желудевые глаза, выпуклые губы, бритое актерское лицо.
Минут через десять в кабинет вошел человек в синей форме, сел боком на стол следователя и принялся качать ногой. Потом пришли еще двое, и я подумал, что народу в кабинете многовато для простого допроса.
– Вы поедете на опознание, Кайрис. У вас крепкий желудок? – Пруэнса отхлебнул чаю и улыбнулся.
– Я уже видел ее труп. Я видел, как ее убили, но не смог разглядеть того, кто стрелял. Я также видел, как тело прятали в мешок для мусора. Не надейтесь, что в морге я признаюсь в том, чего не делал.
– У вас скверный португальский для человека, который живет здесь почти девять лет. Вы имели в виду его труп? – Пруэнса был до странности благодушен, и я насторожился.
– Думаю, убитый сам толком не знал, кто он такой. В эскорте такие часто бывают. Скорее всего, это был парень. Я видел настоящий cаralho, не приклеенный.
– Да он под дурачка косит, – сказал тот, второй. – То у него мужика пристрелили, то бабу!
На нем была свежая рубашка, я почуял запах стирального порошка, когда он толкнул меня на пол вместе со стулом. Я ударился головой о край стола, из носа пошла кровь, стул придавил мне правую руку, я хотел его скинуть, но тот, кто меня толкнул, поставил ногу на перекладину, не давая мне подняться.
На какое-то время я перестал слышать, но потом слух вернулся – болезненным щелчком, похожим на тот, что бывает после слишком быстрой самолетной посадки.
– Значит, вы видели убитого раздетым? – услышал я голос следователя. – Это мы занесем в протокол. Мы знаем, что вы знакомы с жертвой, но не предполагали, что вас связывали отношения такого рода. Ведь связывали?
Я осторожно протянул другую руку к внутреннему карману пальто. Похоже, что очки уцелели, хорошо. Эту оправу я купил еще во времена благоденствия, когда работал в Байру-Алту: золото и сталь, немецкое качество. Вот за что я люблю португальцев – здесь даже бьют не слишком стараясь.
– Каким образом жертва оказалась в вашем доме, в чем была суть конфликта и куда вы спрятали труп? – Пруэнса присел возле меня на корточки. Вблизи его лицо показалось мне старше, все в мелких щербинках, похожих на пороховые отметины.
– О чем мы вообще говорим? Проверьте запись с камеры в моем компьютере, там ясно видно, кто стреляет, это крепко сбитый, коренастый мужчина, и он ниже меня ростом!
Я разглядывал ботинки охранников, лежа на полу и думая об Орсоне Уэллсе. Когда снимали «Гражданина Кейна», режиссер велел пробить яму в цементном полу студии и заставил оператора туда забраться, чтобы люди в решающей сцене выглядели настоящими исполинами.
Я думал о том, приходилось ли Орсону Уэллсу лежать на полу в кабинете следователя. Еще я думал о паучке, который висел на паутинке, которую он начал плести от крышки стола, на котором лежала папка с моим делом, в котором было написано про убийство, которого я не совершал.
– У нас пистолет с твоими отпечатками и твой компьютер, в котором нет никаких записей. – Тот, второй, ткнул меня носком ботинка в бок. – В твоем доме нашли наркоту. Полежи и подумай, у тебя есть пять минут.
Паучок, сидевший в засаде, поймал муху и принялся ловко ее вертеть; муха была большая, янтарная, но и охотник был не промах. Вот тебе и ответ, Костас, думал я, закрывая глаза и слушая, как полицейские обсуждают ночную грозу и состав «Спортинга».
Я знал, что жаловаться некому, более того, я не мог даже разозлиться как следует: я давно не видел людей и страшно по ним соскучился. Да не настроит тебя никакой слух против тех, кому ты доверяешь, говорил мой любимый философ, но он не сказал, что делать, если ты не доверяешь никому.
ЗоеОдиночество – целебная вещь, почти как экстракт болиголова. Моя мать начала лечиться травами, когда отец уехал из Питера и нашел себе литовскую жену, оставив нас в комнате, полученной от его мрачной конторы. Нас оттуда довольно быстро выгнали, и мы жили в маминой мастерской, с огромным окном, заклеенным крест-накрест липкой лентой.
Зимой мама рисовала в смешных пуховых варежках, из которых пальцы торчали наполовину. Летом мы вынимали грязное стекло и мыли его вдвоем, стоя по обе стороны, а потом звали соседа, чтобы вставить эту махину обратно. Окно мастерской выходило на болото, где жила серая цапля. В те времена Токсово было деревней, там жили художники, ходили друг к другу через лес, покупали на станции печенье и молоко.
В Португалии я ни разу не видела серой цапли, зато видела маленькую зеленую квакву. Ты когда-нибудь видел зеленую квакву? Кваква сидит на корнях мангрового дерева и ждет рыбу, просто сидит и ждет. Я так тринадцать лет прожила. Я просто сидела на корнях дерева. И это дерево был Фабиу.
Поверишь ли, он был большим раскидистым деревом, полным странностей и всяческой кривизны. Я провела с ним столько лет, но не знала даже, откуда в доме берутся деньги. После его смерти я искала их по всему дому, чтобы заплатить по счетам, но ничего не нашла, зато счета прибывали и прибывали, будто снежная лавина, наползающая на дом с холма Сан Жоржи.
В завещании говорилось о жемчугах, изумрудах и прочих украшениях Лидии, но они тоже не нашлись, растворились в огромном доме, и сколько мы ни простукивали стены, сколько ни отворачивали медные шары у кроватей, ничего не засияло, не зазвенело, не посыпалось нам на руки. Я тоже написала завещание, где оставляю эти невидимые, неощутимые драгоценности своей дочери – за ее невидимую, неощутимую ко мне любовь.
Жаль, что ты так и не приехал, Косточка. Отвел бы меня на крышу, посадил бы в шезлонг и налил бы коньяку прямо в чайную чашку, как мы делали в Тарту. Потом перелез бы на соседнюю крышу, чтобы сорвать лимон – помнишь это лимонное дерево? – и мы бы вместе глядели окрест себя и слышали бы стук невидимых колес, как будто едем из Петербурга в Москву.
Ты думаешь, я обижена на то, что ты повел себя как бездарный друг, как равнодушный мальчишка? Нет, я не обижена. Раньше мне нужно было кого-то любить, я просто по стенам ходила, будто геккон на охоте, а теперь мне все равно. Так бывает с привычкой фотографировать все, что нравится: сначала чувствуешь себя глупо, оказавшись в чужом городе без камеры, а спустя десять лет даже не вспомнишь о ней, собирая дорожную сумку.
* * *Сегодня я сумела подняться с постели и долго сидела на подоконнике, глядя на реку, на крыши доков, на огни грузовых и рыбацких суденышек, сгрудившихся в малом порту. Я думала о том, что не успела постигнуть две вещи, которые доступны почти каждому, и теперь уже не успею. Это музыка и бог.
Сколько бы я ни ходила в оперу и на классические концерты, музыка оставалась лишь плавником таинственной рыбы, слабо царапающим мое сознание, я так ясно видела эту рыбу, сиявшую в зеленоватой воде, но каждый раз она проносилась мимо, оставляя меня с протянутой в пустоту рукой.
Бог тоже был для меня недоступен. Я признавала его, как лишенные слуха признают скрипичный ключ, нотную линейку и существование Монтеверди. В детстве я никогда не ходила в церковь: возле нашего дома были два храма, в одном располагался музей атеизма, а в другом – картофелехранилище. Даже теперь моя вера основана на боли и желании поскорее умереть, а вовсе не на том, на чем положено. А на чем положено?
Смешно думать, что я разговариваю с тобой, а на самом деле – неизвестно с кем, будто по сломанному телефону. Ты ведь эту запись можешь и не найти, в таком огромном доме черный диктофон словно иголка в ворохе кружева. Что ж, я умею разговаривать без собеседника. Я ведь рассказывала тебе, как однажды мы застряли с дочерью в Сагреше, в отеле, и я говорила по телефону с фантомом?
В ту осень я крепко поссорилась с Фабиу, взяла ребенка и уехала на юг, понадеявшись на свою подругу. Денег у нас не было, хватило только на гостиницу, подруги дома не оказалось, и мы пили воду из-под крана, от которой ломило зубы, и грызли яблоки, украденные из китайской вазы в холле.
Вечером я вышла на балкон, чтобы выкурить сигарету, и услышала, что наши пожилые соседи говорят по-английски, они накрывали на своей террасе стол и звенели бокалами. Я стояла там и думала, что на моем месте сделала бы сметливая Лиза, моя мать. Потом я вернулась в комнату, надела красное платье, встала у балконных дверей, сняла телефонную трубку и стала громко говорить с воображаемым собеседником. Я смеялась так ласково и всхлипывала так натурально, что чуть сама не поверила, что на том конце провода кто-то есть.
Не прошло и пяти минут, как соседи постучали в нашу дверь со стороны коридора: раз такое дело, сказали они, ваш багаж пропал, ваши деньги выпали из сумки на пляже, а ваш муж опоздал на самолет, не хотите ли присоединиться к нашему ужину?
КостасМой друг Лютас был зимним человеком – довольно бледный от природы, в ноябре он становился перламутровым, будто изнанка морской раковины. Зима была ему к лицу, зимой он был ловким, разговорчивым и полным холодной небрежной силы.
Летом я ни разу не видел его загорелым, даже не представляю, зачем он часами валялся на этом грязном пляже, где песок был похож на остывшую золу. Сказать по правде, летом я видел его редко – они с матерью уезжали на молетский хутор. Там у Лютаса была другая жизнь, я знал о ней по рассказам, и она представлялась мне полной испытаний: мне чудились рваные раны от кастета, кровоподтеки от драки ремнями, яростный футбол в высокой траве и лиловые следы на шее, которые носили напоказ, не прикрывая.
На моем хуторе жизнь была совершенно иной: колодезная вода, от которой ломило зубы, довоенные журналы на чердаке, царапины от терновых кустов. В худшем случае – твердое рельефное пятно от слепня. Я был выше Лютаса на голову, читал на трех языках, носил золотые часы и гордился крепкими икрами велосипедиста, но Габия почему-то хотела его, низкорослого, с волосами цвета кукурузной шелухи и маленьким, темным, подгорелым ртом. Да что Габия, я сам готов был пойти за ним куда угодно, ползти на окровавленных коленях от Острой Брамы до польской границы – так говорила моя мать, и я знал, что она права.
Узнав о его приезде в Лиссабон, я так засуетился, что сам себя перестал узнавать. Лютас предупредил меня, как настоящий немец, за две недели, и все эти дни я приводил дом в порядок, даже велел служанке вычистить ковры, и она два дня на меня дулась.
Первый вечер был каким-то неловким, бренди быстро кончился, лампа перегорела, мы грызли орехи и черствый хлеб, Лютас сидел в кресле с ногами, смутное белое пятно в сгустившихся сумерках.
От него несло неврастенией, будто сыростью из подвала. Когда он заговорил о вильнюсских знакомых, я посмотрел на него с опаской, мне показалось, сейчас он откроет рот и скажет:
– А вот, кстати, Габия… Какого черта ты там делал, пока меня в городе не было? Не мог себе квартиру снять?
Произнеси он эту фразу, и все поменяется, думал я. От прежней дружбы и так остались одни лохмотья. Но он не произнес.
Он прожил у меня несколько дней, обошел весь дом, даже на чердак забрался, вытер собой всю пыль в спальне Лидии, когда разглядывал ширмы с драконами, спустился в подвал, зачем-то простучал там стены, а в последний день сделал мне предложение, от которого я не смог отказаться.
* * *Вильнюс распухает во мне, хотя место ему на дне затянувшейся раны, в капле сукровицы. С каждым днем его становится все больше и больше, он отравляет мои сны, разъедает их беззвучными, яркими, увеличенными, будто в диаскопе, картинками. Флюгер с уснувшими воробьями, похожий на детскую карусель, канавы, полные покорных лягушек, водяные лилии, волчья ягода, черные от сажи сталактиты на горячих подвальных трубах. Хуже того, я вспоминаю то, чего вообще никогда не видел!
Прошлой ночью я видел во сне лейтенанта, гордо входящего в наш дом со смуглой сияющей щукой в руках, метра в полтора рыбина, даже не знал, что такие бывают. Этой щукой лейтенант торжествующе бил об стол, а бабушка Йоле смеялась, подбоченясь за его спиной, чешуя залепила ей лицо, но я видел ее острые зубы, похожие на щучьи, и вдруг почувствовал голос крови, хотя смешно говорить об этом, глядя на холодную рыбью слизь.
Моя бабка была не простая рыбка, а железная, остро заточенная, это я с детства знал, а мать пошла в другую ветвь, в арестантскую роту, как говорила Йоле, в сибирских колодников. Проснувшись, я сел на своей скамье, спустил ноги на ледяной пол и внезапно, больно, невыносимо остро – как будто колючим плавником ткнули в горло – понял, что я в тюрьме.
Если мне удастся выкрутиться, вернусь домой и стану жить на озере. Хутор мне отписал двоюродный дед, потому что больше отписывать было некому: я последний мужчина в роду.
Я полюбил этот хутор в тот год, когда на округу напала каштановая чума. Дед пытался с ней бороться, поливая стволы гашеной известью, но каштаны, служившие дому оградой с восточной стороны, начисто облетели еще в середине июля и теперь стояли в ряд, поднимая к небу черные подсыхающие ветки. Тропинка была усыпана раздавленными плодами, некоторые успели покрыться шипастой коркой, но ослабели, упали и лежали в траве, будто зеленые корабли марсиан.
Помню, что обитатели хутора казались мне бестолковыми небожителями, в их владении было все, чего я тогда хотел от жизни, все запретные радости, а они просто жили, и всё: не купались в пруду, не ели дичков, не катались на лошадях, не лазили за малиной к пану Визгирде. Лицо деда я помню смутно, зато помню камышовые дорожки и широкую, как пастбище, кровать. Над изголовьем кровати висел глиняный Христос, раны от гвоздей сочились бесцветной кровью.
Деда похоронили в начале лета, а мне в первый раз купили костюм, слишком теплый и коловшийся изнанкой. Я ходил в нем по деревне, гордился и потел, помню даже запах шевиота, а вот похороны начисто забыл.
Мать говорила, что после похорон я забрался на кровать, встал на подушки и принялся кормить глиняное распятие шоколадом, который мне купили в ларьке возле кладбища. Кормил и приговаривал: «Перкун-отец имел девять сыновей!» Бабушка гневно зашипела в дверях, я обернулся, оступился и полетел вниз с горестным воплем. Глиняный бог уцелел, сказала мать, а тебя то ли в угол поставили, то ли выпороли. Но я не помню ни наказания, ни бога, ни шоколада.
Сегодня я проснулся с мыслью о том, что можно писать, если не с кем поговорить. Эта возможность – другая, одна из тех, что составляют основу грубой холщовой бесконечности, где время – это всего лишь уток, слабая переменная. Там, за тюремной стеной, простираются поля других возможностей, затопленные постоянством воды, – господни поля под паром.
Охранник поддался на мои уговоры и принес карандаш и пачку бумаги, думаю, такую цену за бумагу платили только древние китайцы в те времена, когда ее делали из коконов шелкопряда.
Я держу ее под матрасом, как положено арестанту, а пишу по утрам, пока светло, после трех часов солнце ко мне не заглядывает. Однажды я уже заводил похожий дневник, лет десять тому назад, записывал мысли в блокнот, укладываясь спать в нашей с китаистом комнате, заставленной сосновыми полками. У нас даже между кроватями стояли полки в половину моего роста, так что мы спали в овечьем загоне, сделанном из голубых томов «Путешествия на Запад» и зеленых кирпичей Плутарха.
Поскольку со мной почти ничего не происходит, допросили и забыли, и, судя по тишине в коридоре, ничего не происходит и с остальными арестантами, я буду писать здесь о прошлом. Тому, кто пишет о прошлом, необязательно помнить, как все на самом деле было, ведь он владеет мастихином, которым можно не только смешивать охру с белилами, но и палитру поскрести, почистить лишнее. А если заточить как следует, то и убить, пожалуй, можно.
ЛютасПервый немецкий год я провел на помойке. В берлинскую киношколу меня не взяли, хотя мой фильм понравился комиссии. Ну и черт с ними, правила там были слишком жесткими: первый год никакой стипендии и никакого жилья. Так что я взял свою дискету и отправился зарабатывать деньги. Для начала устроился мусорщиком, работа была ночная, в пять утра мы возвращались в барак и ложились спать, а после обеда отправлялись на поиски еды и выпивки.
В первый день я еле отмылся под горячим душем, отдирал воображаемую грязь жесткой мочалкой. В бараке мусорщиков было чисто и тепло, а вот одежда всегда воняла, хотя нам выдавали голубые брезентовые комбинезоны, шапки и сапоги.
Я просто поверить не мог, что сам стал Габдулой-караимом, которого мы во дворе забрасывали яблочными огрызками. Габдула приезжал на своей таратайке раз в месяц, чтобы очистить выгребные ямы, и ему собирали по рублю; борода у него была грязная, пальцы скрюченные, а в кармане лежала жестяная дудка, в которую он по прибытии громко дудел. Году в девяносто пятом он перестал приезжать, умер, наверное, хотя нам он казался вечным, будто облупленная краснокирпичная бастея в конце нашей улицы.
Осенью в общественной бане я познакомился с лысым тирольцем по имени Тор, и он предложил мне поработать в эскорте. Без фанатизма, время от времени.
– С таким телом грех торчать на мусорке, через год превратишься в клошара, – сказал он, – и потом будет поздно. Это ведь замкнутый круг, пропиваешь все, что зарабатываешь. А тебе кино надо снимать. И жилье приличное для адреса.
Он был прав, паршивый адрес в Берлине – это все равно что вонючее пальто, ты всюду таскаешь его за собой и смешишь людей. Деньги у меня были отложены, и я мог снять комнату в каком-нибудь Кройцберге, но на жизнь уже не хватило бы. Время шло, пора было забирать к себе Габию, а что я мог ей предложить? Так что я подумал и согласился.
Первое время я жил у него в квартире, а договор был такой: с каждой клиентки – двадцать пять процентов плюс моя доля за жилье. Он сидел на телефоне, мурлыкал на своем баварском диалекте, договаривался о встречах, а мне оставалось только напялить костюм и отправляться на вызов. Костюм я купил у Тора, а рубашки у турка, который жил под нами и, похоже, воровал в больших магазинах.
Это была фишка Тора – одеваться подчеркнуто прилично, никакой дешевки, хотя все дизайнерские тряпки висели на разболтанном железном рейле, потому что даже шкафа в квартире не было.
Я быстро перенял его практичные умения, обзавелся отличным бельем, прочел несколько книг по теме и, если бы не позорный немецкий, имел бы успех почище, чем у моего учителя. Единственное, что меня бесило, – приходилось пить много химии, иначе эти старые бабы доконали бы меня за неделю.
* * *В девяносто восьмом Кайрис уговаривал меня ехать в Тарту, но я собирался в мореходное, даже документы подделал, чтобы взяли, уменьшил себе возраст на два года. В мореходке меня заставили пройти медосмотр и сразу отправили домой, нашли куриную слепоту. Где написано, что капитан корабля должен видеть в темноте? Взять хотя бы адмирала Нельсона, тот и вовсе был кривой.
– Какой смысл тратить на образование четверть жизни, – сказал я Костасу, вернувшись домой. – В прежние времена я мог бы стать юнгой в десять лет, а к двадцати уже увидеть весь свет, даже Патагонию.
Патагония тогда была моим убежищем. Я мог часами рассказывать про вонючую смолу, выступающую на ветках, про хвощи, туко-туко и казуаров. Я знал «Путешествие на "Бигле"» наизусть, на кухонной стене у меня висела карта, где я отмечал флажками пути воображаемых кораблей. Когда мать начала на карту коситься, я снял ее и принес Костасу, свернутую в рулон, чтобы он повесил ее в сарае, – я многое у него прятал с тех пор, как понял, что мать роется в моих вещах.