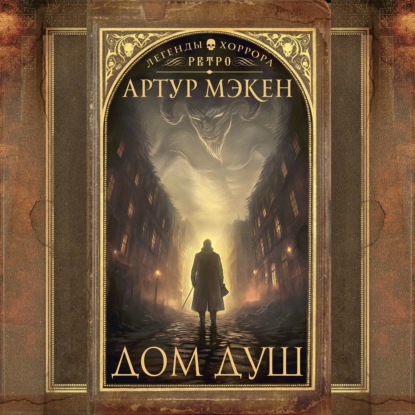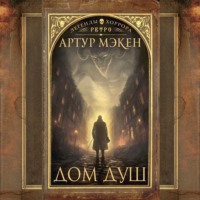Полная версия
Дом душ

Артур Мэкен
Дом Душ
Arthur Machen
The House of Souls
© Сергей Карпов, перевод, 2024
© Анна Хромова, перевод, 2024
© Любовь Сумм, перевод, 2024
© Наталия Осояну, перевод, 2024
© Сергей Неживясов, иллюстрация, 2024
© ООО «Издательство АСТ», 2024
* * *Введение
Думаю, к осени 1889 года меня посетила мысль попробовать писать несколько современнее. Ведь до тех пор я, так сказать, носил в литературе костюм. Богатый, образный английский язык начала семнадцатого века всегда представлял для меня особый интерес. Я приучил себя писать на нем, думать на нем; я вел в этой манере дневник и отчасти неосознанно облачал свои повседневные мысли или переживания в одежды кавалеров и каролинских богословов[1]. Таким образом, получив в 1884 году заказ на перевод «Гептамерона»[2], я вполне естественно писал на языке излюбленного периода и, как объявили некоторые критики, сделал свою английскую версию еще более старинной и чопорной, нежели оригинал. Так и «Анатомия табака» была упражнением в старинном стиле другого рода; и «Хроники Клеменди» – это собрание историй, изо всех сил выставлявшихся средневековыми; да и перевод Le Moyen de Parvenir[3] – все еще вещица в старинном духе.
Казалось, уже дело решенное, что в литературе мне суждено остаться в прошлом; и сам не знаю, как я от него ушел. Я закончил перевод «Казановы» – более современного, но далеко не сегодняшнего произведения, – и не имел на руках особых дел, и тогда по той или иной причине меня посетила идея попробовать написать что-нибудь для газет. Я начал с того жанра, что зовется «терновер»[4], в былом сгинувшем «Глоуб» – с безобидного текста о старых английских поговорках; и мне никогда не забыть своей гордости и радости, когда однажды, будучи в Дувре, под свежим осенним ветерком с моря, я купил случайную газету и увидел свое эссе на первой странице. Само собой, это придало мне сил продолжать, и я писал еще статьи в том же духе для «Глоуб», а затем попробовал сговориться с «Сент-Джеймс Гэзетт», обнаружил, что у них платят два фунта против гинеи в «Глоуб», и – опять же само собой, – посвятил большую часть внимания им. После эссе и литературных статей у меня откуда-то взялся вкус к рассказам, их я написал немало, все еще для «Сент-Джеймс Гэзетт», пока осенью 1890 года не сочинил вещицу под названием «Двойное возвращение». Что ж, Оскар Уайльд затем меня спросил: «Не ты ли автор того рассказа, что поднял такой переполох? Как по мне, он очень хорош». Но – переполох я и вправду устроил, и на том наши дорожки с «Сент-Джеймс Гэзетт» разошлись.[5]
Но я еще напишу два рассказа, теперь – главным образом для так называемых «светских» газет[6], ныне не существующих. Один вышел в издании, чье название я давно позабыл. Рассказ я назвал Resurrectio Mortuorum, что редактор вполне рассудительно переделал в «Воскрешение мертвых».
Уж не помню точно, как начиналась эта история. Склонен думать, в подобном ключе:
«Старый мистер Льюэллин, валлийский антиквар, швырнул свою утреннюю газету на пол и грохнул кулаком по столу, восклицая: „Боже правый! Последнего из гартских Карадогов[7] женил священник-диссентер[8] в баптистской церкви, где-то в Пекхэме“». Или же я начал эту историю несколько лет спустя после этого счастливого события и показал уже совершенно довольного жизнью молодого клерка, который однажды утром слишком резво бежал за омнибусом, весь день нехорошо чувствовал себя в конторе и домой возвращался как в тумане, а потом на самом пороге к нему вернулось, так сказать, родовое сознание. Мне кажется, что в той версии от вида жены и тона ее голоса ему было видение: оно трубным зовом возвестило, что у него нет ничего общего ни с этой женщиной с акцентом кокни, ни с приглашенным на ужин пастором, ни с краснокирпичным особнячком, ни с Пекхэмом или лондонским Сити[9]. Хоть его старый дом на берегах Аска[10] был продан пятьдесят лет тому назад, наш главный герой все еще остается гартским Карадогом. Забыл, как я закончил тот рассказ; но вот вам один из источников «Фрагмента жизни».
И каким-то образом, хоть текст был написан, напечатан и оплачен, для меня он с 1890-го по самый 1899-й оставался историей, рассказанной не до конца. Я влюбился в эту завязку, в сей контраст между грязным лондонским пригородом с его скудным ограниченным бытом и ежедневными поездками в Сити; с его крайней банальностью и незначительностью и старым серым особняком со сводчатыми окнами, что стоит под лесом у реки, с гербом на якобинском крыльце и древними благородными традициями; все это не отпускало меня, и временами я вспоминал свою недоделанную историю, работая над «Великим богом Паном», «Красной рукой», «Тремя обманщиками», «Холмом грез», «Белыми людьми» и «Иероглификой». По всей видимости, на протяжении того времени она оставалась на задворках разума, и наконец в 1899-м я принялся ее переписывать с несколько иной точки зрения.
Дело в том, что одним серым воскресным днем в марте того года я отправился с другом на долгую прогулку. В те дни я проживал на Грейз-Инн-роуд, и мы пустились по улице в очередное странное и ненаучное исследование любопытных закоулков Лондона, что всегда так меня радовали. Не думаю, чтобы планировалось что-либо конкретное; но в пути мы бежали множества соблазнов. Ведь по правую сторону от Грейс-Инн-роуд находится один из самых странных кварталов Лондона – для незашоренных глаз, конечно же. Здесь улочки 1800–1820 годов сбегают в долину – на одной из них проживала Флора из «Крошки Доррит»[11], – а затем пересекают Кингс-Кросс-роуд и резко забираются на высоты, у меня лично всегда складывая впечатление, будто бы я попал в самый дальний и бедный уголок какого-то большого приморского местечка и здесь из чердачных окон открывается славный вид на море. Некогда эта округа звалась Спа-Филдс, а среди ее достопримечательностей значилась старинная молельня «Связи» графини Хантингдон[12]. Это один из тех районов Лондона, что привлекли бы меня, желай я спрятаться; скорее не от ареста, а от вероятности встретиться с кем угодно, кто меня когда-либо видел.
Но мы с другом утерпели перед всеми соблазнами. Мы прогулялись до переплетенья множества дорог у вокзала Кингс-Кросс и отважно пустились вверх по Пентонвилю. И вновь: по левую руку от нас находился Барнсбери, который ничем не хуже Африки. В Барнсбери semper aliquid novi[13], но наш путь правила за нас некая оккультная сила, и так мы прибыли в Ислингтон и выбрали правую сторону дороги. Покамест мы находились в терпимом крае известного, поскольку каждый год в Ислингтоне проводится большая Выставка скота, куда съезжаются многие. Но, отклонившись правее, мы попали в Кэнонбери, о коем уже известно лишь из россказней путников. Пожалуй, только когда время от времени сидишь у зимнего камелька, пока за окном завывает ветер и сыплет снег, молчаливый незнакомец в углу расскажет, что в Кэнонбериде жила его двоюродная бабка в 1860 году; так в четырнадцатом веке встречались люди, общавшиеся с теми, кто побывал в Катае или повидал чудеса Великого Шама[14]. Таков и Кэнонбери; сам я едва ли смею говорить о его мрачных площадях, заросших садах в глубине задворок, темных переулках с неприметными и таинственными боковыми дверями: как я уже сказал – «Россказни Путников», а им веры нет.
Но страннику в Лондоне знакомо предчувствие бесконечности. Всегда есть край дальше Ultima Thule[15]. Не знаю, как так вышло, но в то достославное воскресенье мы с другом, минуя Кэнонбери, вышли на так называемую Боллс-Понд-роуд – где-то в ее окрестностях проживал мистер Перч, посланник из «Домби и сына»[16], – и дальше, кажется, через Долстон на юг, в Хэкни, откуда к пределам западного мира через указанные интервалы устремляются караваны, или трамваи, или – как вроде бы выражаются в Америке – «троллейкары».
Но в ходе той прогулки, ставшей вылазкой в неизведанное, я увидел две совершенно обыденные вещи, произведшие на меня глубокое впечатление. Улицу и маленькую семью. Улица находилась где-то в том неопределенном, неизведанном регионе Боллс-Понд – Долстон. Это была длинная улица, серая улица. Каждый дом выглядел в точности как его соседи. У каждого имелся полуподвал – из тех, что агенты в последнее время привыкли звать «нижним первым этажом». Передние окна подвалов торчали над клочком черной закопченной почвы и грубой травы, звавшимся палисадом, и потому, когда я там прогуливался часов около четырех или половины пятого, мне открывался вид во все до единой «комнаты для завтрака» – это их формальное название, – на уже расставленные подносы и чайные чашки. Такое житейское и естественное обстоятельство вызвало у меня мысль об унылой жизни, уложенной по жутким правилам продуманного единообразия, – жизни без приключения тела или души.
Затем – семья. Она села в трамвай в сторону Хэкни. Отец, мать и младенец; и надо думать, они только что вышли из небольшой лавочки, возможно, – магазина украшений для дома. Родители были молодыми людьми в возрасте от двадцати пяти до тридцати пяти. Он – в черном блестящем сюртуке (это вроде бы называется «Альберт» в Америке?), цилиндре, с бачками, темными усами и выражением дружелюбного отсутствия. Жена – причудливо разодетая в черный атлас, в широкополой шляпе, с видом не болезненным, а скорее бессодержательным. Полагаю, и о ней говорили, что в прошлом – но не слишком часто – у нее пробуждался «норов». А на ее коленях сидел маленький ребенок. Семья наверняка собиралась провести воскресный вечер с родными или друзьями.
И все же, сказал я себе, эти двое причастились к великой тайне, великой евхаристии природы, источнику всего магического на белом свете. Но разглядели ли они его секреты? Знают ли, что побывали в месте, что зовется Сионом и Иерусалимом? Здесь я цитирую старую книгу, странную книгу.
Вот так-то, вспомнив заодно старый рассказ «Воскрешение мертвых», я и обрел источник для «Фрагмента жизни». Тогда я писал «Иероглифику», давеча закончив «Белых людей»; или, вернее, решив, что вышедшее в печати под этим заглавием – это все, что будет написано, а Великий героический роман, который написать следовало – воплощая мою задумку – не будет создан никогда. И потому, закончив «Иероглифику» где-то в мае 1899 года, я принялся за «Фрагмент жизни» и написал первую главу с огромнейшим удовольствием и совершенной легкостью. А затем на фрагменты разбилась уже моя жизнь. Я перестал писать. Я путешествовал. Я повидал и Сион, и Багдад, и множество других причудливых мест – ищите объяснение сего таинственного вояжа в «Далеком и близком», – и очутился в освещенном мире подмостков и штанкетов, выходил на просцениум, уходил за кулисы и занимался прочими престранными вещами.[17]
И все же, невзирая на все потрясения и перемены, «допущение» меня не покидало. Вновь я за него взялся, пожалуй, в 1904 году, охваченный ожесточенной одержимостью закончить начатое. Теперь ничто не давалось легко. Я пробовал писать и так, и эдак, и наперекосяк. Ничего не получалось, я не довел до конца ни одну попытку; но все пробовал и пробовал снова. Наконец слепил какую-никакую концовку, прескверную, что осознал, уже дописав последнее слово, и рассказ вышел в 1904 или 1905 году в «Хорликс Мэгэзин» под редактурой моего старого и дорогого друга А. Э. Уэйта[18].
И все же: я оставался недоволен. Сочиненная мною концовка была неприемлема, и я это знал. Потому вновь засел за работу, боролся с финалом вечер за вечером. И я припоминаю странное обстоятельство, что как будто может представлять некий физиологический интерес. Тогда я проживал в замкнутой «верхней части» дома на Косуэй-стрит, что у Марилебон-роуд. Чтобы мучиться в одиночестве, писал я на небольшой кухоньке; и пока угрюмо, свирепо, но совершенно безнадежно бился за мало-мальски подходящую концовку «Фрагмента жизни», я с изумлением и едва ли не испугом обнаружил, что мои ноги пронизывает загробный холод. На кухне холодно не было – я зажигал конфорки небольшой газовой плиты. И самому мне холодно не было – но вот ноги мерзли совершенно удивительным образом, словно стояли во льду. Наконец я снял тапочки, думая приткнуть ступни к плите, но, ощупав их, обнаружил, что они вовсе не холодные! Однако ощущение не уходило; вот вам, пожалуй, и странный пример отдачи в конечностях того, что творится в мозгу. На ощупь ноги казались вполне теплыми, но по ощущению мерзли. Зато какое верное свидетельство меткости американской идиомы о холодных ногах[19], означающей удрученное и отчаянное настроение! Но так или иначе история была закончена, а я наконец выкинул «задумку» из головы. Во все эти подробности о «Фрагменте жизни» я углубляюсь потому, что во многих кругах меня уверяют, будто бы это лучшее, что я когда-либо писал, и исследователям кривых путей-дорожек литературы может быть интересно услышать, как тяжек был вложенный в это произведение труд.
«Белые люди» – повесть того же года, что и первая глава «Фрагмента жизни», 1899-го, когда я еще закончил «Иероглифику». Факт в том, что тогда я пребывал в прекрасном расположении литературного духа. До того меня целый год мучили и беспокоили в редакции «Литературы» – еженедельника, публиковавшегося газетой «Таймс», – и, выйдя на свободу, я почувствовал себя узником, сбросившим оковы; по крайней мере, готовым пуститься в беллетристический пляс. Тотчас я задумал Великий героический роман – произведение безмерно мудрое и мудреное, полное странностей и редкостей. Уже и забыл, почему из этой затеи ничего не вышло; но опытным путем я понял, что Великий героический роман отправится на красивую полку ненаписанных книг – ту полку, где в золотом переплете стоят все великие книги. «Белые люди» – это лишь обломки, спасенные после кораблекрушения. Как ни странно, исток их сюжета, как и намекается в прологе, следует искать в учебнике медицины. В прологе упоминается статья-обзор доктора Корина. Но с тех пор я узнал, что доктор Корин лишь цитировал из научного трактата тот случай дамы, чьи пальцы страшно воспалились, когда она увидела, как тяжелая оконная рама опускается на пальцы ее ребенка. В одном ряду с этим случаем, разумеется, стоят все стигматы, как древние, так и современные; и затем сам собой напрашивается вопрос: какие пределы мы можем наложить на силы воображения? Нет ли у них способности исполнить любое чудо – самое что ни на есть волшебное, самое что ни на есть невероятное по нашим заурядным меркам? Что до оформления «Белых людей», то это смешение – смею думать, довольно изобретательное, – обрывков фольклора и преданий о ведьмах с моими выдумками. Несколько лет спустя меня немало позабавило письмо от господина, работавшего, если не ошибаюсь, директором школы где-то в Малайе. Тот господин, серьезный исследователь фольклора, писал статью об уникальных явлениях, что он наблюдал среди малайцев, и главным образом – о некоем состоянии оборотничества, в которое кое-кто из них умел входить. По его словам, он обнаружил удивительные сходство между магическим ритуалом малайцев и теми церемониями и практиками, на которые указывается в «Белых людях». Он предполагал, что все это не фантазия, а факт; что я описал настоящие практики суеверных жителей валлийской границы; он собирался процитировать меня в статье для «Журнала Фольклорного общества» или как он там назывался и просто вежливо о том извещал. Я поспешил написать в журнал, чтобы предостеречь их: ведь все примеры, отобранные исследователем, были плодами моей фантазии!
«Великий бог Пан» и «Сокровенный свет» – истории уже более ранние, из 1890-го, девяносто первого, девяносто второго. Я немало писал о них в «Далеких годах» и предисловии к изданию «Великого бога Пана», выпущенному господами Симпкином и Маршаллом в 1916 году. Я уже описывал происхождение книги в подробностях. Но должен вновь процитировать некоторые выдержки из отзывов, встретивших «Великого бога Пана» к моим великим развлечению, потехе и обновлению сил. Вот кое-что из лучшего:
«Это не вина мистера Мэйчена, а его несчастье, что читатель трясется скорее от смеха, нежели ужаса, созерцая сие психологическое пугало». – «Обсервер».
«Его ужасы, с сожалением сообщаем, оставили нашу кровь вполне теплой… а кожа так и отказалась идти мурашками». – «Кроникл».
«Его нечисть не пугает». – «Скетч».
«Мы опасаемся, что преуспевает он лишь в нелепости». – «Манчестер Гардиан».
«Жутко, мерзко и скучно». – «Лейдис Пикториал».
«Нечленораздельный кошмар о сексе… который, необузданный, скорее, приведет читателя к безумию… не замечая своей абсурдности». – «Вестминстер Гэзетт».
И так далее и тому подобное. Несколько газет, сколько помню, провозгласили «Великого бога Пана» попросту дурацким и неумелым пересказом Là-Bas и À Rebours Гюисманса[20]. Я этих книг не читал, так что разыскал обе. И теперь думаю, что мои критики тоже их не читали.
Фрагмент жизни
I
Эдвард Дарнелл очнулся ото сна о древнем лесе и прозрачном роднике, переходящем в серое марево и пар под туманной поблескивающей жарой; и стоило глазам открыться, как он увидел в своей комнате яркий солнечный свет, блестящий на лаке новенькой мебели. Он перевернулся и обнаружил сторону жены пустой, и тогда, все еще в некоем замешательстве и изумлении ото сна, тоже встал и принялся торопливо одеваться, потому что несколько залежался, а омнибус проходил у его угла в 9:15. Дарнелл был высоким и худым человеком, темноволосым и темноглазым, и, невзирая на рутину Сити, пересчет купонов и механическую работу, тянувшиеся вот уже десять лет, в нем еще сохранялся любопытный намек на дикое изящество, словно он родился обитателем древнего леса и своими глазами видел тот источник, бьющий средь зеленого мха и серых камней.
На первом этаже, в задней комнате с панорамными окнами на сад, уже накрыли завтрак, и перед тем как приступить к жареному бекону, он ответственно и послушно поцеловал жену. У нее были каштановые волосы и карие глаза, и, несмотря на серьезное и замкнутое лицо, можно было бы сказать, будто она дожидалась мужа под древними деревьями после омовений в горном пруду.
Им было что обсудить, пока разливался кофе и поедался бекон, а глуповатая глазастая служанка с пыльным лицом варила Дарнеллу яйцо. Дарнеллы были женаты всего год и замечательно ладили, редко просиживая молча больше часа, но в последние недели почти неисчерпаемую тему для разговоров им преподнес подарок тети Мэриан. В девичестве миссис Дарнелл была мисс Мэри Рейнольдс, дочь аукциониста и торговца недвижимостью из Ноттинг-Хилла, а сестра ее матери, тетя Мэриан, якобы весьма принизила себя замужеством за мелким торговцем углем из Тернем-Грина. Мэриан в полной мере прочувствовала на себе это отношение семьи, и Рейнольдсы еще пожалели о сказанном, когда этот торговец скопил денег и приобрел участки под застройку в районе Крауч-Энд – как оказалось, к большой для себя выгоде. Никто не ожидал, что Никсон многого добьется в жизни; но теперь они с женой уже много лет проживали в красивом особняке в Барнете, с эркерами, живой изгородью и загоном для лошадей, и две семьи практически не виделись, поскольку мистер Рейнольдс денежным человеком не был. Разумеется, тетю Мэриан с мужем приглашали на свадьбу Мэри, но чета в ответ прислала извинения и славный набор серебряных крестильных ложечек в подарок, и уже ходили опасения, что на большее рассчитывать не придется. Однако в день рождения Мэри тетя написала что ни на есть прочувствованное письмо, приложив чек на сотню фунтов от себя и «Роберта», и с тех самых пор Дарнеллы обсуждали, как бы им разумно распорядиться деньгами. Миссис Дарнелл хотела вложить всю сумму в государственные ценные бумаги, но мистер Дарнелл напоминал об их смехотворно низкой процентной ставке и после долгих уговоров склонил жену вложить девяносто фунтов из суммы в надежную шахту, дававшую пять процентов прибыли. Все это, конечно, хорошо, но те оставшиеся десять фунтов, которые миссис Дарнелл потребовала сберечь, впредь порождали легенды и разговоры столь же бесконечные, сколь споры о выборе школы.
На первых порах мистер Дарнелл предлагал обставить «свободную» комнату. Всего в доме имелось четыре спальни: первая принадлежала супругам, вторая, маленькая, была отведена для слуги и две выходили в сад, в одной хранили коробки, обрезки веревок и разрозненные номера «Тихих дней» да «Воскресных вечеров» вдобавок к поношенным костюмам мистера Дарнелла, аккуратно упакованным и уложенным, поскольку он понятия не имел, к чему их приспособить. Последняя комната стояла откровенно запустелой, и однажды субботним днем, когда он возвращался домой на омнибусе, ломая голову над загадкой десяти фунтов, ему на ум вдруг пришла неприглядная пустота помещения, и он просиял при мысли о том, что теперь благодаря тете Мэриан можно его обставить. Этой идеей он тешился всю дорогу домой, но, войдя, ни слова не сказал жене, желая вначале дать замыслу дозреть. Он сказал миссис Дарнелл, что из-за важного дела должен без промедления снова уйти, но неукоснительно вернется к чаю в половину седьмого; а Мэри со своей стороны не сильно огорчилась, думая наверстать в чтении книг о домашнем хозяйстве. Правда же состояла в том, что Дарнелл, переполняясь мыслям о меблировке свободной спальни, хотел посовещаться со своим другом Уилсоном, который проживал в Фулхэме и не раз давал дельные советы, как распорядиться деньгами с наибольшим преимуществом. Уилсон занимался продажей вин из Бордо, и Дарнелл только опасался, что его не окажется дома.
Но все сложилось удачно: Дарнелл проехал на трамвае по Голдхок-роуд, прошел оставшуюся часть пути пешком и был вознагражден видом Уилсона, виноторговец копался в клумбах своего сада.
– Не видел тебя целую вечность, – приветствовал тот радостно, услышав скрип калитки под рукой Дарнелла. – Заходи. Ах, из головы вылетело, – добавил он, пока Дарнелл возился с ручкой и тщетно пытался войти. – Конечно, ты не войдешь; я же тебе еще не показал.
Стоял жаркий июньский день, и Уилсон был в костюме, в который спешно переоделся, как только сам прибыл из Сити. На нем было канотье с модной длинной лентой, прикрывающей шею сзади, тужурка норфолкского фасона и бриджи до колен оттенка вереска.
– Смотри, – сказал он, впуская Дарнелла, – смотри, в чем тут трюк. Рукоятку вовсе не поворачивают. Сначала с силой нажимаешь, а потом тянешь на себя. Мое изобретение, я его еще запатентую. Понимаешь, не подпускает нежеланных гостей – а это большое дело в пригороде. Теперь я знаю, что могу со спокойной душой оставить миссис Уилсон одну; ты и не представляешь, как ей раньше докучали.
– А как же гости? – спросил Дарнелл. – Как заходят они?
– О, их мы научили. К тому же, – сказал он неопределенно, – их кто-нибудь обязательно увидит. Миссис Уилсон почти все время у окна. Сейчас-то ее нет; ушла проведать друзей. Кажется, нынче Домашний день Беннеттов. Сегодня же первая суббота месяца, верно? Знаешь Джей Даблью Беннетта? Да, он в палате общин; дела у него идут замечательно. Намедни дал мне один отличный совет. Но послушай, – продолжил Уилсон, когда они развернулись и направились ко входной двери, – зачем ты ходишь в черном? Я ведь вижу, тебе жарко. Посмотри на меня. Сам видел, я был в саду, но мне прохладно, как в теньке. Позволь предположить: ты просто не знаешь, где раздобыть такие вещи? Очень немногие знают. Вот как по-твоему, где я их нашел?
– В Вест-Энде, наверное, – ответил Дарнелл из вежливости.
– Да, и все так говорят. И ведь крой правда хороший. Что ж, тебе я скажу, только не разноси всему свету. Мне это подсказал Джеймисон – ты его знаешь, Джим-Джемс из китайской торговли, дом 39 по Истбрук, – и он говорит, что не хочет, чтобы об этом прознали все в Сити. Но сходи к Дженнингсу, в «Олд-Уолле», назови мое имя – и в накладе не останешься. И как, по-твоему, сколько это стоит?
– Понятия не имею, – сказал Дарнелл, в жизни не покупавший ничего подобного.
– Так угадай.
Дарнелл серьезно смерил Уилсона взглядом.
Тужурка висела мешком, бриджи уныло болтались над икрами, а где обтягивали ноги, там расцвет вереска поблек и пропал.
– Наверное, не меньше трех фунтов, – сказал он наконец.
– Что ж, давеча я спрашивал Денча у нас в конторе, и он сказал четыре фунта десять шиллингов, а ведь его отец как-то связан с большим предприятием на Кондуит-стрит. Но я отдал всего-навсего тридцать пять шиллингов и шесть пенсов. По меркам ли сшито? А как же; хоть сам посмотри на покрой.
Дарнелла изумила такая низкая цена.
– И кстати говоря, – продолжал Уилсон, показывая на свои новенькие коричневые туфли, – знаешь, куда обратиться за кожей для туфель? О, я-то думал, это уже все слышали! Место может быть только одно. «Мистер Билл» на Ганнинг-стрит – девять шиллингов и шесть пенсов.
Они ходили кругами по саду, и Уилсон показывал цветы на клумбах и границах сада. Почти ни один не цвел, зато высажены они были аккуратно.
– Это корнеплодные глазговцы, – сказал он, показав на сухой ряд подвязанных растений, – там вон – прищурицы; это новая находка, молдавская семперфлорида андерсони; а это – праттсия.