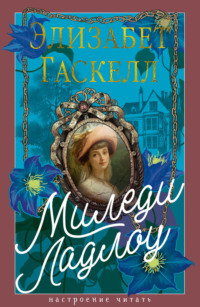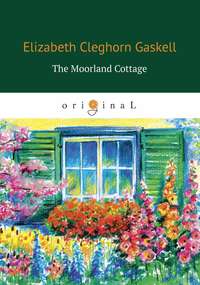Полная версия
Жены и дочери
Она не видела, как возвращается с лугов Роджер Хэмли, не слышала, как стукнула маленькая белая калитка. Он с утра охотился по прудам и канавам и теперь нес на плече мокрый сачок с плененными им уродливыми сокровищами. Он возвращался домой ко второму завтраку, как всегда с превосходным полуденным аппетитом, хотя делал вид, что – теоретически – презирает еду. Роджер знал, что мать любит быть в его обществе в это время. Для ее здоровья был важен именно второй завтрак, и раньше этого времени она обычно не спускалась вниз и не виделась с членами семьи. Так что ради матери он перешагивал через свою теорию и, надо сказать, с замечательным аппетитом составлял ей компанию за столом.
Он не заметил Молли, когда пересекал террасу на пути домой. Он прошел ярдов двадцать по лесной тропинке под прямым углом к террасе, когда, оглядывая траву и дикие растения под деревьями, вдруг обнаружил одно – весьма редкое, которое ему давно хотелось найти в период цветения, и вот наконец он своим зорким, внимательным глазом увидел его. Роджер опустил на землю свой сачок, предварительно умело закрутив сетку, чтобы пленники не разбежались, пока сачок лежит на траве, и легкими уверенными шагами отправился на поиски сокровища. Он был так влюблен в природу, что, не задумываясь об этом, просто в силу привычки, избегал наступать без необходимости на любое растение, – кто знает, в какой давно разыскиваемый нарост или какое насекомое может обратиться то, что поначалу кажется не стоящим внимания?
Поиск вел его в направлении скамьи под ясенем, менее укрытой от наблюдения с этой стороны, чем со стороны террасы. Он остановился, разглядев в траве светлое платье, – кто-то полулежал, прислонившись к скамье, так неподвижно, что ему показалось, будто лежащая больна или в обмороке. Он подождал, наблюдая. Через минуту-другую послышались рыдания. Плакала мисс Гибсон, повторяя в отчаянии:
– Папа, папа, только бы ты вернулся!
В первую минуту он подумал, что милосерднее было бы оставить ее в неведении, что она замечена, и даже сделал на цыпочках несколько осторожных шагов назад, но тут опять услышал жалобный плач. Расстояние от дома было слишком велико для его матери, иначе – что бы ни было причиной этих слез – она была бы наилучшей утешительницей для этой девушки, своей гостьи. Однако – правильно это было или неправильно, деликатно или навязчиво, – услышав вновь этот печальный голос, в котором звучало такое безутешное, одинокое отчаяние, он повернул назад и пошел к зеленому шатру под ясенем. Когда он оказался рядом, она вскочила на ноги и попыталась сдержать рыдания, машинально отводя от лица и приглаживая спутанные, мокрые от слез волосы.
Он смотрел на нее сверху вниз с серьезным и доброжелательным сочувствием, но совершенно не знал, что сказать.
– Пора завтракать? – спросила она, стараясь убедить себя, что он не замечает ее заплаканного лица, что он не видел, как она лежала, безутешно рыдая.
– Не знаю. Я шел домой к завтраку. Но… позвольте мне вам это сказать… я не мог пройти мимо, когда увидел, как вы огорчены. Что-то случилось? Я хочу сказать – что-то такое, в чем я мог бы вам помочь, потому что, конечно, я не вправе расспрашивать, если это какое-то личное огорчение, в котором от меня никакой пользы.
Она так обессилела от плача, что чувствовала себя не в состоянии ни стоять, ни идти. Она опустилась на скамью, вздохнула и побледнела так, что ему показалось – она сейчас потеряет сознание.
– Подождите минуту, – сказал он (что было совершенно излишне, так как она не могла пошевелиться) и стрелой понесся к ручью, который знал в этом лесу, а минуту спустя вернулся осторожными шагами, неся немного воды в широком зеленом листе, превращенном в импровизированную чашу. Как ни мало было воды, Молли полегчало.
– Благодарю вас, – сказала Молли. – Я теперь смогу идти, через некоторое время. Не ждите меня.
– Позвольте мне остаться с вами, – сказал он. – Моя мать будет недовольна, если я брошу вас, когда вы так слабы.
Некоторое время они молчали. Он сорвал и пристально рассмотрел несколько видоизмененных листьев ясеня, отчасти по свойственной ему привычке, отчасти давая ей время прийти в себя.
– Папа собирается снова жениться, – наконец сказала она.
Она не знала, почему сказала ему это: за секунду до того, как она заговорила, у нее не было такого намерения. Он бросил лист, который держал в руке, обернулся и посмотрел на нее. Ее печальные, несчастные глаза наполнились слезами, и она с немой мольбой о сочувствии встретила его взгляд. Ее взгляд был красноречивее, чем слова. Он отозвался после короткой паузы, и более потому, что чувствовал себя обязанным как-то отозваться, чем потому, что сколько-нибудь сомневался в том, каким будет ответ на его вопрос.
– Вы жалеете об этом?
Она не отвела взгляда, и ее дрожащие губы беззвучно произнесли слово «да». Он снова помолчал, глядя в землю, подталкивая носком камешек. Его мысли никогда не поднимались с готовностью на поверхность в виде слов, и он не склонен был утешать, пока не увидит ясно пути к реальному источнику, из которого должно прийти утешение. Наконец он заговорил – почти так, словно обсуждал некий вопрос с самим собой:
– Мне кажется, возможны такие случаи, когда – оставляя совершенно в стороне вопрос о любви – становится почти долгом стремление найти кого-то, кто заменил бы мать… Я думаю, – сказал он уже совсем другим тоном и по-другому глядя на Молли, – что этот шаг может оказаться очень счастливым для вашего отца: освободить его от многих забот, дать ему приятную спутницу жизни.
– У него была я. Вы не знаете, как много мы значили друг для друга – по крайней мере, как много значил он для меня.
– И все же он, должно быть, счел, что так будет лучше всего, иначе он не стал бы этого делать. Он, должно быть, решил, что так будет лучше для вас – даже более, чем для него.
– Именно в этом он пытался убедить меня.
Роджер снова начал гонять носком камешек. Он понял, что подошел к делу не с той стороны. Вдруг он поднял голову:
– Я хочу рассказать вам об одной знакомой девушке. Ее мать умерла, когда ей было около шестнадцати лет, – она была старшей в большой семье. С тех пор – в самые цветущие годы своей юности – она посвятила себя своему отцу, сначала как утешительница, потом как спутница, друг, секретарь – все, что угодно. У него на руках было огромное дело, и он часто приходил домой только для того, чтобы заново приняться за подготовку к завтрашней работе. И Харриет всегда была рядом, готовая помочь, поговорить или помолчать. Так продолжалось восемь или десять лет, а потом ее отец снова женился – на женщине немногим старше, чем сама Харриет. И вот – это самый счастливый круг людей, какой я знаю. А ведь трудно подумать, что такое возможно, правда?
Она слушала, но не решалась ничего сказать. Однако ее очень заинтересовала эта маленькая история о Харриет – девушке, которая так много значила для своего отца, гораздо больше, чем Молли в своей ранней юности могла значить для мистера Гибсона.
– Как же так могло быть? – выдохнула она наконец.
– Харриет думала о счастье отца больше, чем о своем, – ответил Роджер с суровой лаконичностью.
Молли была нужна именно такая поддержка. Она снова недолго поплакала.
– Если бы это было ради папиного счастья…
– Он, должно быть, верит в это. Что бы вы ни думали сами, дайте ему шанс. Не очень у него будет спокойно на душе, если вы будете мучиться и тосковать – вы, которая всегда так много значила для него, как вы говорите. А та дама… Если бы мачеха Харриет была эгоистичной женщиной, если бы неизменно добивалась, чтобы все и всегда исполняли только ее желания, – но нет, она не была такой: она заботилась о счастье Харриет так же, как Харриет заботилась о счастье своего отца. И будущая жена вашего отца тоже может оказаться такой женщиной, хотя такие люди редки.
– Не думаю, что она такая, – негромко сказала Молли, в памяти которой ожили подробности того далекого дня в Тауэрс.
Роджеру не хотелось слушать о том, что давало Молли основание для сомнений. Он чувствовал себя не вправе знать о семейной жизни мистера Гибсона – прошлой, настоящей и будущей – больше того, что было абсолютно необходимо, чтобы дать утешение и помощь плачущей девушке, с которой он столкнулся так неожиданно. К тому же ему хотелось вернуться домой и быть рядом с матерью во время завтрака. Однако он не мог бросить Молли одну.
– Надо уповать на лучшее в каждом человеке и не ожидать худшего. Это звучит как трюизм, но меня это не раз утешало, и когда-нибудь вы тоже найдете это полезным. Всегда надо стараться больше думать о других, чем о себе, и лучше заранее не думать о людях плохо. Мои проповеди не слишком длинны? Они не пробудили у вас аппетит? У меня определенно проповеди всегда вызывают голод.
Казалось, он ожидал (да так и было), что она встанет со скамьи и пойдет к дому вместе с ним. Но он еще и ясно дал ей понять, что не уйдет без нее. Она неуверенно поднялась, чувствуя, что у нее нет сил даже сказать, насколько лучше ей было бы еще посидеть здесь одной. Она была очень слаба и споткнулась о вылезший из земли корень, протянувшийся поперек тропы. Роджер, молчаливый, но внимательный, успел протянуть руку, удержав ее и не дав ей упасть. Когда опасность миновала, он продолжал держать ее за руку. Это маленькое происшествие заставило его почувствовать, как Молли юна и беззащитна, ощутить сострадание к безутешному горю, свидетелем которого он стал, ощутить желание ласково успокоить ее, прежде чем они расстанутся – прежде чем их совместная прогулка сольется с непритязательной общностью пребывания под одной крышей. Однако он не знал, что сказать.
– Вы, должно быть, считаете меня черствым, – вырвалось наконец у него, когда они подходили к окнам гостиной и двери в сад. – Я никогда не могу выразить то, что чувствую, – как-то получается, что я всякий раз впадаю в философствование, – но мне вас жаль. Да, мне жаль. Я не в состоянии вам помочь в том, что касается реальных фактов, – их я не могу изменить, но я могу сочувствовать вам так… но об этом незачем говорить, потому что это ничего не дает. Помните, как мне жаль вас! Я часто буду о вас думать, хотя, наверно, об этом опять же лучше не говорить.
– Я знаю, что вам жаль, – сказала она едва слышно, высвободила руку, убежала в дом и вверх по лестнице в уединение своей комнаты.
Он сразу отправился к матери, которая сидела перед нетронутым завтраком, раздосадованная таинственной непунктуальностью своей гостьи, насколько она вообще была способна на что-то досадовать. Она уже слышала, что приезжал мистер Гибсон и уехал, и не могла добиться, оставил ли он для нее какое-нибудь послание. Тревога о здоровье, которую некоторые люди считали ипохондрией, всегда заставляла ее с особым нетерпением жаждать мудрых советов из уст своего врача.
– Где ты был, Роджер? И где Молли, то есть мисс Гибсон? – Она всегда сохраняла барьер формального обращения между молодым человеком и молодой девушкой, оказавшимися в одно и то же время в одном и том же доме.
– Я ходил на болото. (Между прочим, я оставил сачок на террасе.) На обратном пути я увидел мисс Гибсон – она сидела на террасе и плакала так, точно у нее вот-вот сердце разорвется. Ее отец собирается снова жениться.
– Снова жениться! Да что ты говоришь!
– Да, собирается. Она очень огорчена, бедная девочка. Мама, ты бы послала кого-нибудь отнести ей бокал вина или чашку чая – что-нибудь подкрепляющее: она была чуть не в обмороке…
– Я сама схожу к ней. Бедняжка, – сказала миссис Хэмли, поднимаясь.
– Ни в коем случае, – возразил он, опуская ладонь на ее руку. – Мы и так заставили тебя слишком долго ждать, ты очень бледна. Хэммонд отнесет, – добавил он и позвонил.
Она снова опустилась на стул, все еще бесконечно изумленная:
– На ком он собирается жениться?
– Не знаю. Я не спрашивал, а сама она не сказала.
– Вы, мужчины, всегда так! Да ведь половина дела заключается в том, кто она такая – женщина, на которой он собирается жениться.
– Наверно, надо было спросить. Но я как-то теряюсь в таких случаях. Мне было очень жаль ее, и все же я не знал, что говорить.
– И что же ты сказал?
– Я дал ей наилучший совет, какой мог.
– Совет! Ты должен был утешить ее. Бедная маленькая Молли!
– По-моему, если совет хорош – это лучшее утешение.
– Зависит от того, что ты подразумеваешь под советом. Тише! Она идет.
К их удивлению, Молли вошла, всеми силами стараясь держаться как обычно. Она успела промыть холодной водой глаза, причесать волосы и теперь делала все возможное, чтобы сдержать слезы и не позволить голосу дрожать и прерываться. Она не желала огорчать миссис Хэмли видом страдания и боли. Не осознавая, что следует совету Роджера – думать более о других, чем о себе, – она, однако, именно так и поступала. Миссис Хэмли не знала, разумно ли с ее стороны начинать с новости, только что услышанной от сына, но сама была так поражена ею, что не могла говорить ни о чем другом.
– Я слышала, твой отец собирается жениться, моя дорогая? Можно узнать – на ком?
– На миссис Киркпатрик. Она, кажется, прежде была гувернанткой в доме графини Камнор. Она часто приезжает к ним; у них в доме ее называют Клэр и, по-моему, очень любят.
Молли пыталась говорить о будущей мачехе в возможно более благоприятной манере.
– Кажется, я о ней слышала. Так она, значит, не очень молода? Ну, этому так и следует быть. И вдовствует, как и твой отец. У нее есть какая-нибудь семья?
– По-моему, дочь. Но я так мало о ней знаю!
Молли опять была очень близка к слезам.
– Не беда, дорогая. Это все выяснится со временем. Роджер, ты почти ничего не ел. Куда ты собрался?
– За своим сачком. Там много такого, что мне не хотелось бы потерять. К тому же я обычно ем мало.
Это было правдой лишь отчасти. Ему казалось, что их лучше оставить наедине. Его мать обладала таким даром сочувствия, что она непременно должна была вытащить шип из сердца девушки, когда они останутся вдвоем. Когда дверь за ним закрылась, Молли подняла на миссис Хэмли заплаканные глаза и сказала:
– Он был так добр ко мне. Я постараюсь запомнить все, что он сказал.
– Я рада слышать это, милая, очень рада. Судя по тому, что он мне рассказал, я боялась, что он прочел тебе целую лекцию. У него доброе сердце, но нет той мягкости в обращении, что есть у Осборна. Роджер порой бывает резковат.
– Тогда мне нравится резкость. Она принесла мне пользу. Она заставила меня почувствовать, как скверно… о миссис Хэмли, как скверно я вела себя с папой сегодня утром!
Она встала, бросилась в объятия миссис Хэмли и разрыдалась у нее на груди. Сейчас она сокрушалась не о том, что отец ее собирается снова жениться, а о том, как ужасно было ее поведение.
Если Роджер не был мягок на словах, то был мягок в своих поступках. Какой бы неразумной и, возможно, преувеличенной ни казалась ему горесть Молли, для нее это было подлинное страдание, и он постарался облегчить его в своей собственной, весьма характерной манере. В тот вечер он установил и наладил свой микроскоп, разложил на маленьком столике сокровища, собранные им в утренних блужданиях, а затем пригласил мать прийти полюбоваться на них. Конечно, пришла и Молли, как им и было задумано. Он постарался заинтересовать ее своими занятиями, лелея и поощряя ее первый слабый проблеск любопытства, заботливо взращивая его до стремления получить более подробные сведения. Затем он достал книги на нужную тему и перевел их несколько напыщенный и профессионально специализированный язык в обычную, повседневную речь. Спускаясь к обеду, Молли не представляла себе, как прожить долгие часы до сна, часы, когда ей нельзя будет говорить о том, что единственно занимало ее мысли, так как она боялась, что уже утомила миссис Хэмли во время их дневного разговора наедине. Но время молитвы и сна наступило много быстрее, чем она ожидала: она чувствовала себя освеженной новым направлением мыслей и была очень благодарна Роджеру. И теперь ей предстояло завтрашнее утро и покаянное признание, которое она должна сделать отцу.
Но мистер Гибсон не нуждался в речах и в словах. Он вообще не питал любви к изъявлениям чувств и к тому же, должно быть, ощущал, что будет лучше как можно меньше говорить о предмете, по поводу которого между ним и дочерью явно нет полного и нерассуждающего согласия. Он прочел в ее глазах раскаяние, понял, как много она выстрадала, и ощутил при этом острый укол в сердце. Когда она заговорила о том, как жалеет о своем поведении накануне, он тут же остановил ее словами:
– Ну-ну, довольно об этом. Я знаю все, что ты хочешь сказать. Я знаю свою маленькую Молли, своего маленького глупого гусенка, лучше, чем она сама себя знает. Я привез тебе приглашение. Леди Камнор хочет, чтобы ты провела будущий четверг в Тауэрс.
– Ты хочешь, чтобы я поехала? – спросила она с упавшим сердцем.
– Я хочу, чтобы вы с Гиацинтой ближе познакомились… научились любить друг друга.
– С Гиацинтой? – недоуменно спросила Молли.
– Да, с Гиацинтой. Глупее имени я никогда не встречал, но приходится так ее называть. Я не выношу имя Клэр, как ее называют миледи и вся семья в Тауэрс. Имя «миссис Киркпатрик» звучит официально, да и произносить его нелепо, поскольку она его скоро сменит.
– Когда, папа? – спросила Молли, чувствуя, что оказалась в каком-то странном, незнакомом мире.
– После Михайлова дня[24]. – И, следуя за ходом своих мыслей, добавил: – Хуже всего то, что она еще и продлила существование своего жеманного имени, назвав дочь в свою честь. Синтия! Сразу наводит на мысль о луне и лунном человечке с его вязанкой хвороста[25]. Я так рад, что ты просто Молли.
– Сколько ей, то есть Синтии, лет?
– Вот-вот, привыкай к ее имени. По-моему, Синтии Киркпатрик примерно столько же лет, сколько тебе. Она сейчас в школе во Франции – приобретает изящные манеры. К свадьбе она приедет домой, тогда вы с ней сможете познакомиться, хотя, как мне представляется, потом она должна будет вернуться туда еще на полгода или около того.
Глава 11
Начало дружбы
Мистер Гибсон полагал, что Синтия Киркпатрик приедет в Англию на свадьбу своей матери, но намерения миссис Киркпатрик были совершенно иными. Она не была, что называется, решительной женщиной, но от того, что ей не нравилось, она так или иначе уклонялась, а то, что нравилось, старалась сделать или получить. Поэтому в разговоре (на который его сама же и навела) о том, когда и как она будет выходить замуж, она спокойно выслушала предложение мистера Гибсона, чтобы Молли и Синтия сыграли роль подружек невесты, думая, однако, как неприятно было бы присутствие юной дочери во всем блеске красоты рядом с увядшей невестой – своей матерью; и по мере того, как дальнейшие распоряжения о предстоящем венчании становились более определенными, она находила все новые аргументы в пользу того, что Синтии лучше спокойно оставаться в школе в Булони.
В первую ночь после помолвки с мистером Гибсоном миссис Киркпатрик легла спать в предвкушении скорой свадьбы. В ней она видела освобождение от школьного рабства – содержания убыточной школы с едва достаточным количеством учениц, чтобы выплачивать ренту и налоги, платить за еду, стирку, приходящих учителей. Она не видела иной причины возвращаться в Эшкомб, кроме как для того, чтобы закончить там свои дела и упаковать наряды. Она надеялась, что пыл мистера Гибсона будет таков, что он станет торопить ее со свадьбой, побуждая не возобновлять школьных занятий, а оставить их раз и навсегда. Она даже мысленно составила от его имени очень прочувствованную, очень страстную речь, достаточно красноречивую, чтобы убедить ее, отбросив все угрызения совести, которые, как она ощущала, ей полагалось испытывать, объявляя родителям своих учениц, что она не намерена возвращаться к занятиям и что в предпоследнюю неделю летних каникул им придется искать новое учебное заведение для дочерей.
Но планы миссис Киркпатрик начали рушиться, когда утром, за завтраком, леди Камнор решительно занялась определением круга дел и обязанностей, которые надлежало исполнить двум немолодым влюбленным:
– Разумеется, вы не можете вот так сразу бросить свою школу, Клэр. Венчание невозможно раньше Рождества, но это как раз и хорошо. Мы все будем в Тауэрс, и для детей станет большим удовольствием поехать в Эшкомб и присутствовать на вашей свадьбе.
– Мне кажется… я боюсь… я не уверена, что мистер Гибсон захочет ждать так долго. Мужчины очень нетерпеливы в подобных обстоятельствах.
– Какие глупости! Лорд Камнор рекомендовал вас своим арендаторам, и ему не понравится, если им будет причинено подобное неудобство. Мистер Гибсон прекрасно поймет это. Он разумный человек, иначе он не был бы нашим семейным врачом. А как вы поступите с дочерью? Вы уже решили?
– Нет. Вчера казалось, что время несется так быстро, и, когда волнуешься, очень трудно что-то обдумывать. Синтии почти восемнадцать – она достаточно взрослая, чтобы пойти в гувернантки, если он этого пожелает, но я так не думаю. Он такой щедрый и добрый.
– Ну что ж! Я должна дать вам сегодня время на устройство ваших дел. Не тратьте его на всякие сантименты – вы уже не так молоды. Придите к ясному взаимопониманию: от этого в конечном счете зависит ваше счастье.
К ясному взаимопониманию по нескольким вопросам они действительно пришли. К великому огорчению миссис Киркпатрик, она обнаружила, что мистер Гибсон не более, чем леди Камнор, допускает мысль о возможности нарушения ею обязательств перед родителями своих учениц. Хотя он и пребывал в растерянности по поводу того, как быть с Молли, пока она не окажется в своем доме под покровительством его новой жены, и хотя домашние неурядицы докучали ему с каждым днем все больше и больше, порядочность не позволяла ему и думать о том, чтобы убедить миссис Киркпатрик ради него оставить школу хоть неделей раньше положенного. Он даже не подозревал, как легко было бы ее уговорить, и при всех своих очаровательных уловках ей так и не удалось вызвать у него нетерпеливое желание венчаться раньше Михайлова дня.
– Я не могу сказать вам, Гиацинта, какое я испытаю удовлетворение и облегчение, когда вы станете моей женой – хозяйкой в моем доме, матерью и защитницей моей маленькой бедной Молли, но я ни в коем случае не хочу, чтобы ради меня были нарушены ваши прежние обязательства. Это было бы недопустимо.
– Благодарю вас, любовь моя. Как вы добры! Сколько мужчин думало бы лишь о собственных желаниях и интересах! Я уверена, родители моих дорогих учениц будут восхищаться вами – будут поражены вашей заботой о них.
– Тогда не говорите им. Я не терплю, когда мною восхищаются. Почему бы вам не сказать, что это ваше желание – не закрывать школу до тех пор, пока они не сумеют найти другую?
– Потому что я этого не желаю, – решилась она на рискованный шаг. – Я хочу заботиться о вашем счастье; я хочу превратить ваш дом в место покоя и отдыха; и я так хочу любить и лелеять вашу милую Молли, когда стану ей матерью. Я не намерена приписывать себе чужую добродетель. Если мне придется говорить за себя, я скажу: «Добрые люди, найдите школу для своих дочерей к Михайлову дню, потому что после этого времени я должна буду печься о счастье других». Мне невыносимо думать о ваших долгих поездках в ноябре – как вы возвращаетесь домой по ночам, промокший насквозь, и о вас некому позаботиться. О, если вы предоставите это мне, я посоветую родителям забрать своих дочерей из-под опеки той, чье сердце уже не с ними. Впрочем, устраивать свадьбу раньше Михайлова дня я тоже не согласна. Это было бы несправедливо и неправильно. И я уверена, вы бы не стали побуждать меня к этому – вы слишком для этого добры.
– Что ж, если вы думаете, они сочтут, что мы поступаем с ними честно, я от всей души согласен – пусть будет Михайлов день. А что говорит леди Камнор?
– О, я говорила ей, что, боюсь, вы не захотите ждать из-за неприятностей с вашей прислугой и из-за Молли – что нам с нею следовало бы как можно скорее вступить в новые отношения.
– Да, это несомненно. Бедная девочка! Боюсь, известие о моей помолвке сильно подействовало на нее.
– Синтия тоже будет глубоко переживать, – сказала миссис Киркпатрик, не желая допустить, чтобы ее дочь уступала дочери мистера Гибсона в тонкости чувств и дочерней привязанности.
– Мы пригласим ее на свадьбу. Они с Молли будут подружками невесты, – сказал мистер Гибсон в неудержимом порыве сердечной теплоты.
Такой план не вполне устраивал миссис Киркпатрик, но она сочла разумным не возражать против него, пока не найдет благовидного предлога. К тому же подходящий повод вполне мог сам возникнуть из будущих обстоятельств, поэтому сейчас она лишь улыбнулась и слегка сжала его руку в своих.
Трудно сказать, кто – миссис Киркпатрик или Молли – с бóльшим нетерпением ожидал, когда окончится день, который они должны были провести вместе в Тауэрс. Девочки успели изрядно утомить миссис Киркпатрик как вид. Все ее жизненные испытания так или иначе были связаны с девочками. Она была очень молода, когда впервые пошла в гувернантки, и потерпела поражение в борьбе со своими ученицами в первой же семье, куда поступила. Элегантность ее внешности и манер, ее природные умения и способности – более, чем характер и знания, помогали ей с большей легкостью, чем другим, находить хорошее «место», и в некоторых семьях ее просто боготворили, но все же она постоянно сталкивалась то с капризными, то с упрямыми, то с непомерно добросовестными, то с недоброжелательными в суждениях, то с любопытными и чрезмерно наблюдательными девочками. Перед рождением Синтии она мечтала о мальчике, считая вполне возможным, что он, если три-четыре промежуточных родственника умрут, станет баронетом, а вместо сына – извольте радоваться – родилась дочь. И все же, при ее нелюбви к девочкам вообще как к «чуме всей ее жизни» (и это отвращение отнюдь не становилось меньше от того факта, что она содержала школу для «юных леди» в Эшкомбе), миссис Киркпатрик действительно намеревалась проявить как можно большую доброту к своей новообретенной падчерице, которую помнила преимущественно как чернокудрого заспанного ребенка, в чьих глазах читала восхищение своей персоной. Предложение мистера Гибсона она приняла главным образом потому, что устала в постоянной борьбе зарабатывать средства к существованию, но он нравился ей и сам по себе, более того – она даже по-своему, без большой теплоты, любила его и намеревалась проявлять доброту к его дочери, хотя и чувствовала, что ей было бы много легче проявлять доброту к его сыну.