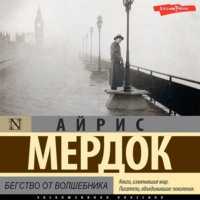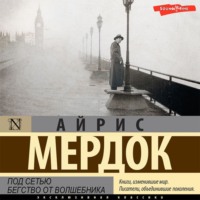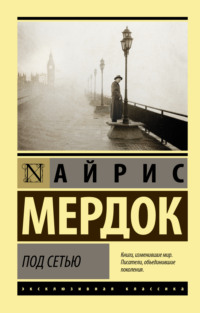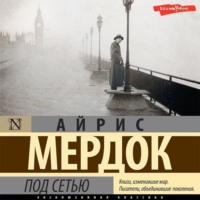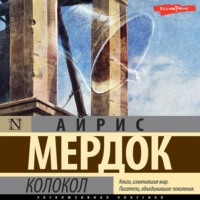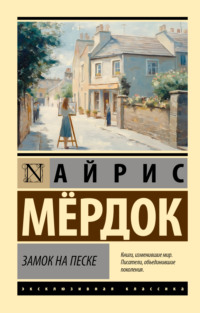Полная версия
Бегство от волшебника
Сегодня, однако, Розе было не до «Киттиной» музыки, не до ее глаз. Подрагивая вместе с машиной, она глядела вслед удаляющемуся Яну. Он был строен, свеж… и быстр, как пропущенный через кольцо шелковый платок. У него была несказанно белая кожа и глаза ярко-синие, как летнее небо, как вода кристально-чистой лагуны, к чьей синеве, одинаковой сверху донизу, не примешиваются никакие оттенки, никакие туманные облачка. Блестящие темно-коричневые волосы опускались на шею, выделяясь на фоне ее белизны, как только что проклюнувшийся из кожуры молодой каштан.
Ян был чрезвычайно похож на своего брата Стефана, работавшего на этой же фабрике. Братья Лисевичи, по образованию инженеры, прибыли в Англию недавно с помощью ОЕКИРСа и здесь приобрели квалификацию. Хотя Яна со Стефаном перепутать было трудновато – у последнего черты не отличались столь идеальной правильностью, – сходство между ними, по общему мнению, было просто сверхъестественным. Казалось, что лицо Стефана – это лицо его брата, отразившееся в воде, то есть более мягкое, с несколько размытыми контурами. Работницы фабрики, их насчитывалось около сотни, разделились на «янсенисток» и «стефанисток». Первые боготворили безупречно вылепленное лицо младшего, вторые воспевали смягченную красоту старшего. Но оба лагеря сходились во мнении: кто из двоих прекрасней – сказать трудно. Братья хорошо разбирались в работе и вскоре перешли из нижнего разряда станочников, среди которых все еще прозябала Роза, в относительно свободный технический персонал.
Роза видела, как, пройдя пятьдесят ярдов, Ян повернул за угол и исчез. И тут ее словно током ударило – его лицо вновь возникло перед ней, совсем близко. Это был Стефан.
– Ну. Пришла. Да? – спросил он. – Сегодня вечером, да?
Роза кивнула и что-то ответила. Стефан сверкнул улыбкой и взглядом обласкал Розу. Он вплотную приблизился к «Китти», и налаженный ритм лотка на мгновение соединил обнаженную руку Розы с его рукой. А потом Стефан удалился со смехом, звук которого утонул в грохоте станков.
– Ох, Китти, – сказала Роза. – Китти! Китти!
Китти, Китти, банг, клик, ответила «Китти», словно была разумным существом, повторяющим собственное имя.
Братья Лисевичи были Розиной тайной. Они появились в ее жизни, когда около двух лет назад, вскоре после прибытия в Англию, поступили на фабрику. Пара растерянных, беспомощных, совсем молодых парней. Видя, что судьбой Лисевичей никто не интересуется, Роза из чувства долга, как немалую тяжесть, взвалила на себя заботу о них. В то время братья казались угнетенными и потухшими, как издыхающие животные; без Розы они и шагу не могли ступить. Тогда они, по сути дела, еще не знали английского языка и, сидя рядком на скамье, немо смотрели на Розу синими глазами, полными смущения и печали. Потом начинали быстро говорить о чем-то друг с другом на польском. После чего один из братьев, обычно это был Стефан, делал попытку обратиться к Розе по-английски. На одно с трудом произнесенное Стефаном слово приходился вихрь жестов и поток польских слов со стороны Яна. Роза никогда прежде не догадывалась, что язык может так напоминать орудие пытки.
Она защищала их, вела, снабжала деньгами и учила английскому. Каждый день встречалась с братьями на фабрике, почти каждый вечер занималась с ними языком и большую часть выходных тратила на то, чтобы познакомить их с Лондоном. Они стали ее детьми и ее секретом. Сначала она и в Хантере, который был чуть старше Стефана, пыталась пробудить интерес к братьям. Но ей не удалось. Хантер почему-то невзлюбил Лисевичей. Через какое-то время Роза с удивлением обнаружила, что братья стали для нее чем-то вроде тайного сокровища. Раньше она постоянно рассказывала о них своим друзьям, но с некоторых пор перестала это делать. Когда ей задавали вопрос: «Ну как там поживают эти угрюмые поляки, которых ты опекала?», она отвечала: «Думаю, у них все в порядке. Они устроились. Я их давно не видела». На самом деле она виделась с братьями так же часто, как и раньше, но скрывала это даже от Хантера.
За это время братья Лисевичи достигли немалых успехов. Они еще раньше, у себя на родине, изучали инженерию и в Англии обнаружили замечательную одаренность в области механики. Освоили английский язык и во всю щеголяли им, хотя словарь их был еще беден, слова подчас употреблялись невпопад и к тому же проявлялось неискоренимое презрение к определенному артиклю. И внешность Лисевичей изменилась к лучшему. Волосы, прежде тусклыми прядями свисавшие на воротник, ожили, как напоенные щедрой влагой растения, и запылали каштановым огнем; чрезвычайная бледность их кожи теперь напоминала стороннему наблюдателю скорее о греческом мраморе, нежели об истощении и анемии. Синие глаза наполнились бесшабашной радостью, рты – смехом. Их красота, их неуклюжий английский, который они вскоре превратили в инструмент соблазна, наконец, их замечательное сходство друг с другом – всем этим они вскоре снискали к себе интерес работниц, очарованных и их внешней беспомощностью, которая из жалкой уже успела стать привлекательной, и тайной кровного родства. А мужчины, видя, какие это смекалистые парни, как охотно они осваивают ремесло, махнули рукой и простили Лисевичам их успех у женщин. В общем, братья обретали популярность.
Роза наблюдала за их успехами сначала с интересом и радостью, позднее сменившимися грустью. Несомненно, с появлением Лисевичей фабрика обрела для нее иной смысл. Роза работала здесь около двух лет. До этого она была журналисткой. А до журналистики преподавала историю в школе для девочек. Она разочаровала свою мать, так и не став фанатичной идеалисткой; она разуверилась в самой себе, так и не став хорошей преподавательницей. В журналистике Роза достигла даже большего, чем ожидала, большего, чем хотела, но все же ей не удалось излечиться от того уныния и цинизма, с которым она вошла в профессию. На фабрику ее привело скрытое стремление к аскетизму. Сфера, в которой она прежде вращалась, с некоторых пор стала вызывать у нее лишь отвращение; она чувствовала, что все там пропитано тайным честолюбием и горечью неосуществленных желаний: она своими глазами видела эту гонку за успехом, эту власть сплетен. И ей захотелось наконец отыскать что-то прямо противоположное – незамысловатое, здоровое, четко организованное, лишенное претензий, монотонное. Что до последнего, то фабричный труд и в самом деле оказался смертельно-монотонным. Роза сначала воспринимала фабрику просто как промежуточную станцию на своем пути, но постепенно начала свыкаться с мыслью, что вся ее жизнь и есть не что иное, как ряд промежуточных станций.
Были времена, когда в ее жизни одно необыкновенное событие следовало за другим. Но с приходом на фабрику сразу наступила абсолютная тишина. Словно тот дух, которого она своим, как определили ее друзья, разрушительным и негативным решением вызвала к жизни, поймал ее на слове. Жизнь и в самом деле стала простой, но в этой простоте не было ни красоты, ни добра, а лишь одна серая скука. Что касается красоты и добра, то тут Роза с самого начала никаких особых иллюзий не питала, в отличие от своей матери, которая свято верила, что в самом общении с народом уже есть красота и благородство. Но в глубине души, пряча эти устремления от окружающих, Роза все же надеялась хоть как-то сблизиться с фабричными работницами; надеялась даже каким-то образом помогать им. Но этому не суждено было сбыться. Она была в ровных отношениях со всеми, и с мужчинами и с женщинами, но при этом расстояние между ней и прочими не сокращалось, и Роза по-прежнему оставалась в их глазах странной, одинокой, дай бог чтобы не подозрительной особой. И все это Розу не удивляло, а разве что чуть разочаровывало. Жизнь стала безликой и механической, что ей даже нравилось, потому что таким образом удовлетворялась глубокая, возможно и отчаянная, жажда покоя.
Роза никогда не стремилась к особому сближению с другими людьми. Связанность с самым близким ей человеком, Хантером, и та временами вызывала в ней нечто похожее на ужас. Это была связь, тесная почти до неприличия. Нос к носу, щека к щеке. Взаимные претензии и условности, обычно разделяющие людей, Розу и Хантера, наоборот, замкнули в одной скорлупе. Привязанность одного человека к другому, размышляла Роза, скрашивается тем обстоятельством, что каждому из них вольно изменяться, и, таким образом, в союзе жизнь каждого не прекращается. Но в их с Хантером скорлупе жизнь иссякала неуклонно, и это вселяло в Розу такую неприязнь к любому сближению, что на ее фоне возрастающее одиночество все больше начинало казаться благом. Новую жизнь, как бы лишенную прежних свойств, она, наверное, приняла бы целиком, если бы не скука, подчас становящаяся невыносимой. Итак, время шло, не неся с собой никаких событий, никаких, кроме появления братьев Лисевичей.
Поначалу братья относились к Розе с немым почтением, напоминающим религиозное поклонение. Они были похожи на двух жалких дикарей, повстречавших прекрасную белую госпожу. Для них она была «английской леди»; и уже потом они рассказывали ей, как гордились тем, что сразу разглядели в ней «леди, не такую, как все остальные, а именно леди». И с большим трудом Розе удалось уговорить братьев называть ее по имени.
Они во всем полагались на нее, трепетали перед ней. Такая власть над людьми стала даже немного беспокоить Розу. Прежде чем совершить любое, даже самое пустяковое дело, Лисевичи просили у нее разрешения; выбор делали, узнав ее мнение: они были ее рабами. Роза страшилась этой силы, но и наслаждалась ею. Случались минуты, когда, наблюдая за сильными, грациозными движениями своих питомцев, Роза чувствовала себя владелицей пары молодых леопардов. Невозможно было не восхищаться ими, невозможно было не радоваться власти над ними.
Братья снимали дешевое жилье в районе Пимлико. Комната Г-образной формы была завалена рухлядью, принадлежавшей какому-то мебельному торговцу, умершему много лет назад; с тех пор никто так и не удосужился выбросить весь этот хлам. Братья, в которых проявилось, когда они вышли из состояния первоначального отупения, такое качество, как невероятная бережливость, страшно обрадовались этой ветхой комнатушке, стоившей им всего восемь шиллингов в месяц и подарившей им кучу старья, в котором они вскоре разобрались и каждой вещи нашли свое место, каждую пустили в дело.
Лисевичи привезли с собой и свою дряхлую, прикованную к постели мать. Старуха помещалась в нише, на матраце, расстеленном прямо на полу. Братья спали на другом матраце, лежавшем в главной части комнаты. Да и вся здешняя жизнь разворачивалась в основном на уровне пола; стулья, все как один, были ветхие, а от кровати, довольно просторной, осталась лишь рама. Эта широкая кроватная рама была главной достопримечательностью жилища. Ржавые перекладины просто вросли в изголовье и спинку, и наверняка понадобилась бы немалая сила, чтобы эту конструкцию разобрать. Но братья тут же решили, что и в таком виде кровать может принести пользу. Это железное чудище сделалось для них неиссякаемым источником шуток. Так как кровать полностью перегораживала комнату, приходилось по пути переступать через одну перекладину, потом через вторую. В то же время на перекладинах можно было сидеть, а на спинке сушить вещи. В общем, кровать была помилована. Туалет, довольно грязный, и кран с водой находились на втором этаже. Братья пользовались этими удобствами наряду с прочими, чрезвычайно загадочными обитателями дома.
К поиску квартиры Роза никакого отношения не имела. Как Лисевичи отыскали это жилище, для нее так и осталось тайной. Но они очень гордились своей находкой и то и дело повторяли: «Мы одиночно это сделали», что означало в те дни: мы сделали это самостоятельно, без Розы. Она испытала потрясение, когда, вскоре после знакомства с братьями, впервые навестила их в Пимлико. Ужасающая ветхость обстановки в сочетании с безупречной чистотой (братьям даже удалось изгнать из комнаты ту особую вонь, которой был пропитан весь дом) произвели на Розу неизгладимое впечатление. Вымытый до желтизны пол, вся эта опрятность только еще больше выпячивали всеобщую скошенность и искривленность.
Но больше всего поразила Розу старуха мать. Ни Розе, ни вообще кому-либо на фабрике Ян и Стефан о своей матери ничего не рассказывали; и Роза склонилась к мысли, что не от незнания, как по-английски будет «мать», братья умолчали о ней, а намеренно, из желания сохранить тайну. Старуха не понимала ни слова по-английски, и Роза засомневалась, а знает ли она вообще, где очутилась и что вокруг происходит. Случалось, Роза часами беседовала с братьями, и все это время старая женщина лежала с закрытыми глазами. Но выпадали минуты, когда Роза ловила на себе ее пристальный, изумленный взгляд; кто знает, может, старуха принимала ее за кого-то другого, за какую-нибудь родственницу или приятельницу, чье имя давно изгладилось у нее из памяти. Но могло быть и совсем по-другому – она, возможно, отлично все понимала. Поближе узнав братьев, Роза решилась задать им этот вопрос, но ответ был короток: «Она думает, что мы еще в Польше. Она никогда не поймет». Так сказал Ян.
«Никогда», – повторил Стефан. Оба встали и повернулись к матери. Казалось, что зрелище лежащей на матраце старухи наполняет их нежностью, смешанной с раздражением и яростью. Когда Роза, обескураженная тем, что немощная женщина в сущности лежит на голом полу, предложила как-то поудобней устроить ее, братья отвергли это предложение почти с гневом. Они не позволили Розе даже приблизиться к матрацу. «Она наша мать, – сказал Стефан. – И не надо беспокойства».
Узнав, что при братьях находится их мать, Роза почувствовала волнение, чем-то похожее на ревность. Сначала ей показалось, что с мнением старой дамы придется считаться, ее надо будет улещать, как-то ей потакать, задабривать. Но прошло какое-то время, и, по-прежнему испытывая перед старухой какой-то благоговейный страх, Роза вместе с тем стала уделять ей внимания не больше, чем какой-нибудь детали обстановки. Выпадали минуты, когда Роза оставалась с ней вдвоем в комнате; и тогда, держась на расстоянии, она без всякого смущения принималась изучать это лицо, похожее на маску древнего идола.
Ей и в самом деле казалось, что она находится рядом с каким-то туземным божеством, отсутствие веры в которое не исключает трепета перед ним. У матери Лисевичей была желтая, пергаментная кожа. Лицо и шея покрыты глубокими темными бороздами, настолько густыми, что за ними невозможно было рассмотреть черты лица. Провалы щек чернели, как щели в разбившемся и плохо склеенном кувшине. Только пышные седые волосы казались живыми, а глаза – большие, темные и влажные – поблескивали в запавших глазницах, как пара медуз, своей влажностью еще больше подчеркивая безжизненную иссушенность кожи. Она всегда лежала, откинувшись на три подушки. Так было днем и, как догадывалась Роза, ночью. Она редко что-то говорила, но когда обращалась по-польски к кому-нибудь из сыновей, голос ее звучал на удивление сильно. Раз или два, оставшись со старухой наедине, Роза попробовала обратиться к ней по-английски, но та не ответила, а лишь продолжала смотреть на Розу своими большими влажными глазами. Вот так они и проводили время: Роза смотрела на старуху, а старуха на Розу, но взаимопонимания между ними не было никакого, словно они попали в эту комнату из двух разных исторических эпох.
Роза с удивлением обнаружила, что не испытывает никакой жалости к болящей. Тут, несомненно, сказалось влияние братьев, которые почти всегда относились к матери как к пустому месту. В присутствии Розы они очень редко обращались к ней. Но временами в Лисевичах пробуждалось какое-то странное лихорадочное возбуждение. Они вставали и обращали изумленные взгляды в сторону матери. Роза научилась распознавать это настроение, начинавшееся с напряжения и дрожи и быстро достигающее оргиастического пика, выражавшегося в чем-то похожем на первобытный ритуал.
– Она – земля, земля, – обращаясь к Розе, торжественно произносил Стефан. – Она наша земля.
– Она наша земля, – вторил Ян. – Иногда мы танцуем на ней, мы танцуем на ней, мы танцуем на нашей земле. О, старуха! – кричал он и поддевал лежащую ногой. А мать при этом продолжала глядеть и улыбаться открытым беззубым ртом.
– Она внутри трухлявая, – подхватывал Стефан. – Вся трухлявая. Я не могу объяснить. Скоро ты почувствуешь запах.
– Однажды мы сожжем ее, – кричал Ян. – Если бы мы ее застраховали, то давно бы сожгли. Она внутри сухая, как солома, запылает в момент. Пламя до небес – и конец.
– Мы сожжем тебя, да, старая, мы подожжем твои волосы! – орал Стефан, а дряхлая мать по-прежнему улыбалась, и глаза ее горели лихорадочным блеском, когда она смотрела на своих рослых сыновей.
– Ты, куча мусора! Ты, старая торба! – кричал Ян. – Мы скоро убьем тебя, мы упрячем тебя под пол, и там ты будешь смердеть не хуже, чем здесь! Мы убьем тебя! Мы убьем тебя!
Танцуя и что-то выкрикивая на польском, Стефан и Ян начинали двигаться по комнате, а их мать приподнималась на своих подушках, словно и ей хотелось встать и присоединиться к танцу.
Затем возбуждение спадало так же внезапно, как и приходило, и тогда братья присаживались на перекладину кровати и сидели, утирая пот. Эти представления сильно пугали Розу, но со временем она привыкла.
– Сколько лет вашей матери? – спросила она однажды после очередного танца.
– Сто, – ответил Ян.
– Он хочет сказать, что очень старая, – пояснил Стефан. – Очень, очень старая. Скоро она совсем забудет польский. Она забудет все. Когда становишься таким старым, то прошлое превращается в пыль и будущее – в пыль. Только настоящее остается, вот такой величины, – тут он приблизил ладонь к ладони почти вплотную.
– Да, это так, – кивнул Ян. И оба тяжело вздохнули. После прыжков и выкриков глубокая тоска обычно охватывала братьев, и тогда, обнявшись, они начинали петь скорбными голосами на польском языке, завершая неизменно Gaudeamus igitur[8], который у них звучал как траурный гимн, протяжный, сопровождаемый мрачным раскачиванием из стороны в сторону.
– Это студенческая песня, – всегда комментировал Ян. – В Польше мы изучали технику, но не хватило времени стать докторантами.
– А теперь мы выпьем, – продолжал Стефан. Бутылка шерри извлекалась из буфета, после чего пили, провозглашая тосты, из чайных чашек.
– За нашу маму! – говорил Ян.
– Знаешь, мы ведь патриоты нашей новой родины, – откликался Стефан. – И поэтому мы пьем ее ужасные вина!
За этим обычно следовал громкий хохот, к которому Розе полагалось присоединиться.
В первое время знакомства братья относились к Розе с такой невероятной почтительностью, что ей просто становилось неловко. Она хотела с ними подружиться, а они смотрели на нее то ли как на владелицу замка, то ли как на социального работника. И вот наконец, краснея, запинаясь, посмеиваясь над собственной неуклюжестью, они впервые назвали ее по имени. Роза помогала братьям чем могла. Их уважительное отношение, беспомощность, их робость – все это пробуждало в Розе горячее стремление оберегать. Ей казалось, что она возвращает к жизни пару маленьких птичек, израненных, полузамерзших. Каждый день приносил с собой новое достижение, новое торжество, нечто неожиданное. В то время братья Лисевичи и в самом деле были ее счастьем.
Ей доставляло особенную радость обучать их английскому языку. Сначала они объяснялись главным образом с помощью жестов, потому что словарный запас был у братьев чрезвычайно мал. Постепенно, но все же с возрастающей скоростью, область общения расширялась, разговоры становились богаче, сложнее; и у Розы появился повод похвалить себя за чутье, подтолкнувшее ее к заботе об этих странных и беспомощных детях. Она чувствовала себя принцессой, которая с помощью своей пылкой веры в чудеса пробудила принцев от колдовского сна или помогла им сбросить звериный облик. Чем полнее пробуждались ее королевичи в царстве английского языка, чем свободнее могли выражать свои мысли, тем большие запасы интеллигентности, юмора и веселья она находила в них, открывая все то, о чем раньше могла лишь догадываться. Но и сейчас случались минуты, когда ей – как принцессе, со странной тоской вспоминающей о покрытой шерстью морде и диких глазах, – хотелось какие-то особенно трогательные мгновения метаморфозы пережить заново. Действительно, если бы это было в ее силах, она замедлила бы процесс преображения, настолько восхитительным он ей казался.
Занятия проходили в комнате, в Пимлико, где все трое сидели, скрестив ноги, на полу, внутри железной кроватной рамы. Посередине лежали словари и учебники. На первых уроках братья в основном переговаривались друг с другом по-польски, и Роза с большим трудом заставляла их произносить фразы из упражнений. Прошло немного времени, и они освоили простейшие английские обращения. Роза строго-настрого запретила им говорить на польском языке, после чего братья стали с азартом демонстрировать друг другу свои познания в английском и подкалывать по поводу ошибок.
– Ты же как деревенщина! – говорил Стефан Яну. – Только они в Англии так разговаривают!
– А ты еще хуже деревенщины! – отвечал Ян. – Роза тебя вообще не понимает. Я говорю как деревенщина, ну а ты как свинья!
Иногда им удавалось так развеселить Розу, что от смеха у нее начинали струиться по щекам слезы; а потом она вдруг понимала, что ей не хочется их сдерживать; пусть текут, пусть льются, пока не станет легче боль, настолько глубокая, что до нее не добраться обычному утешению. Братья открыли в ней какой-то глубоко лежащий пласт уязвимости и печали. В их присутствии у Розы всегда перехватывало дыхание, словно она каждый раз оказывалась в неведомой, прекрасной стране, путешествие по которой наполняло ее несказанным восторгом, а восторг и слезы всегда находятся рядом. Видя, что она плачет, Лисевичи смолкали и заботливо, без всяких вопросов, протягивали ей чистый носовой платок.
И вот однажды случилось то, что Роза смутно предвидела; вернее сказать, ее посещали такого рода мысли, но она тут же их гнала от себя. Вдвоем со Стефаном они возвращались с фабрики. Был туманный ноябрьский вечер. Ян, который отработал на предыдущей смене, ждал их дома с разогретым ужином. Фабрика находилась в Ламбете. Нужно было всего лишь перейти по мосту через реку – и вот уже Пимлико. Роза торопилась. Было холодно и сыро, да еще и очень темно, так что Стефан держал ее под руку. Они приблизились к реке. И тут вдруг с каким-то стоном Стефан остановился. Роза подумала, что ему стало плохо.
– Что с тобой? – спросила она и повернулась к нему лицом. Но тут же все поняла, и ужас сбывающегося пророчества пронизал ее. Минуту они стояли неподвижно, пристально глядя друг на друга. Потом Стефан схватил ее, прижал к стене и начал целовать с каким-то ожесточением. Потом всем телом навалился на нее. Когда Роза почувствовала на себе его тяжесть, воля покинула ее. Она молча обняла Стефана.
Наконец, чуть отодвинувшись, Стефан взглянул на нее. «Роза, – произнес он имя, которому она обучила его, и нежно провел пальцем по ее щеке, – ты хочешь этого, правда?» Роза лишь молча кивнула. Больше ничего не могла сделать.
Остаток пути в Пимлико был похож на кошмар. Обдумывая это позднее, Роза вспоминала, что она с трудом шла, и Стефану пришлось поддерживать ее, почти нести на руках. Все это происходило в полном молчании. Но когда они, взобравшись по лестнице, оказались в комнате, Стефан вновь стал прежним, будто ничего и не было. Они съели ужин, приготовленный Яном, потом позанимались английским, вечер прошел как обычно. Правда, раз или два Ян как-то странно посмотрел на Розу, а может, это ей только показалось.
На следующий день была суббота, и Роза собиралась вечером встретиться с какими-то своими друзьями. А утром она мельком увидела на фабрике обоих братьев. И тот и другой были, по всей видимости, в прекрасном настроении: напевали, посвистывали, всех веселили. А у Розы весь этот день сердце сжималось от печали. Ей казалось, что она видит, как братья отдаляются от нее, будто стоят на какой-то движущейся лестнице. Та безмолвная связь, которая помогла всем троим на какой-то миг подняться над миром, оказалась нарушена. Она вдруг увидела их со стороны, двух очень молодых людей, почти на двадцать лет моложе себя. И все же в мыслях ее не было ясности, она не могла определить, чего боится и что намеревается делать дальше.
По воскресеньям, к пяти вечера она обычно приходила в Пимлико и проводила с Лисевичами вечер. Для нее это были лучшие часы недели. На этот раз она тоже явилась без опоздания, с сильно бьющимся сердцем. Ян куда-то исчез. Ее встретил только Стефан. Когда она вошла, он стоял в центре пустого пространства между перекладинами, уперев руки в бока, торжествующе глядя на нее. «Роза!» – произнес он так, как прежде никогда не произносил.
– Где Ян? – коротко спросила Роза.
– Ушел в гости, – ответил Стефан. – Просил его извинить.
Неожиданный уход Яна не мог не вызвать удивления, и они оба это понимали; но Роза удержалась от комментариев. Как обычно, они выпили и поужинали. Старуха, моргая, глядела в их сторону. В присутствии Розы братья никогда не давали ей пищу. Закончив ужин, оба молча закурили.