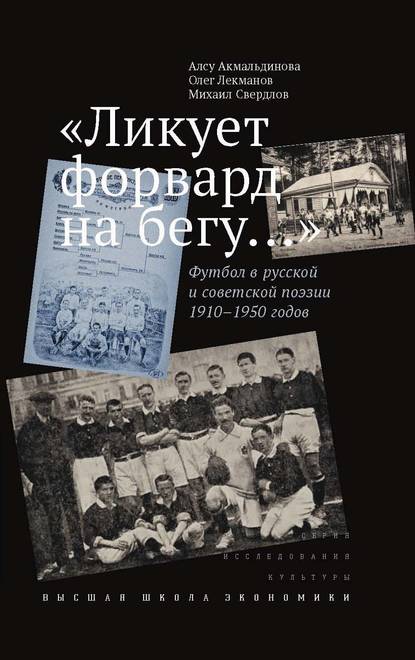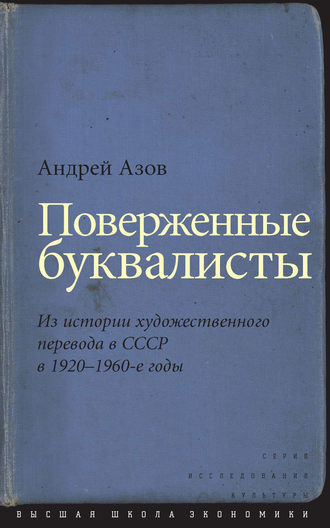
Полная версия
Поверженные буквалисты. Из истории художественного перевода в СССР в 1920–1960-е годы
Отразилась дискуссия о формализме и на спорах о методе художественного перевода: слишком уж удобными оказались выработанные во время нее термины, слишком крепко врезались они в сознание – настолько крепко, что свыше двадцати лет после этого сохранялись в переводческой критике. Плохой переводчик, проявляющий пристальное внимание к оттенкам значения каждого слова подлинника, – натуралист. Плохой переводчик, воспроизводящий необычные стилистические или поэтические приемы подлинника, – формалист. И натуралист, и формалист – одинаково враги; их должно отлучить от переводов или перевоспитать из плохих переводчиков в хорошие. На ценностной оси советской критики противоположностью натурализма и формализма был социалистический реализм. Поэтому совершенно закономерно, что хороший переводчик был со временем объявлен переводчиком-реалистом, а хороший метод художественного перевода – реалистическим (см. гл. III). Если и стоит чему-то удивляться, то только тому, насколько поздно это произошло: Иоганн Альтман, поместивший в «Литературном критике» статью «О художественном переводе», был буквально в шаге от этого[23](см. ниже раздел «Теория творческого перевода»).
8. Проблема стихотворного перевода: вопрос о форме
Николай Степанович Гумилев в статье «Переводы стихотворные», опубликованной в сборнике «Принципы художественного перевода» (1919 г.), презрительно осуждал отступления от формы оригинала. «Существуют три способа переводить стихи, – писал он, – при первом переводчик пользуется случайно пришедшим ему в голову размером и сочетанием рифм, своим собственным словарем, часто чуждым автору, по личному усмотрению то удлиняет, то сокращает подлинник; ясно, что такой перевод можно назвать только любительским. При втором способе переводчик поступает в общем так же, только приводя теоретическое оправдание своему поступку: он уверяет, что если бы переводимый поэт писал по-русски, он писал бы именно так… И теперь еще некоторые думают, что можно заменять один размер другим, наприм., шестистопный пятистопным, отказываться от рифм, вводить новые образы и так далее… Однако, поэт, достойный этого имени, пользуется именно формой, как единственным средством выразить дух» [1919, с. 25]. Он выдвигал «девять заповедей для переводчика», добавляя в шутку: «так как их на одну меньше, чем Моисеевых, я надеюсь, что они будут лучше исполняться». «Заповеди» эти предписывали поэту-переводчику соблюдать:
1) число строк, 2) метр и размер, 3) чередованье рифм, 4) характер enjambement, 5) характер рифм, 6) характер словаря, 7) тип сравнений, 8) особые приемы, 9) переходы тона [Там же, с. 30].
Статья Гумилева, рассчитанная на начинающих переводчиков, не обсуждала – утверждала; Гумилев в ней выступал учителем, наставляющим правилам перевода[24]. В последующие годы, казалось, в Советском Союзе само имя Гумилева должно было дискредитировать отстаиваемые им положения. Действительно, по прошествии чуть более тридцати лет на утверждения Гумилева нападала Е. Егорова[25]:
Теоретик декадентского искусства художественного перевода Гумилев в своих «заповедях» поэтам-пере-водчикам предусматривал только эквилинеарность, эквиметрию, эквиритмию, сохранение чередования рифм, характера переносов стиха, то-есть требовал сохранения только формальных признаков подлинника. Формальный прием был превращен декадентами в некий фетиш. Этот фетишизм формы чужд советскому искусству художественного перевода. Советские переводчики решают вопросы формы в тесной связи с идейным содержанием и особенностями родного языка и поэтики [РГАЛИ, ф. 1702, оп. 4, д. 1336, л. 9].
Однако на самом деле установка на сохранение в переводе формальных особенностей подлинника, в частности его размера, возобладала. Это хорошо видно и в практике поэтов-переводчиков[26], и в статье «Перевод» в «Литературной энциклопедии» («в последнее время в нашей переводческой практике всё более утверждается принцип эквиритмии, т. е. вполне точной передачи всей стиховой структуры подлинника» [Смирнов, Алексеев, 1934, с. 530–531]), и в докладе М.Л. Лозинского «Искусство стихотворного перевода», где он заявлял, что только перевод, «воспроизводящий со всей возможной полнотой и точностью и содержание и форму подлинника», может называться настоящим переводом [1955, с. 160]. Видно это и в жалобах Г.А. Шенгели на требования редакторов: «В.В. Гольцев, редактор журнала “Дружба народов”, на одном из переводческих совещаний заявил, что при переводе тюркских и армянских стихов надлежит выдерживать мужское окончание строк, поскольку в оригинале то же самое, а в переводе грузинских – не допускать мужской каталектики, поскольку в оригинале ее нет» [РГАЛИ, ф. 2861, on. 1, д. 95, л. 98]. Видно это и в критических замечаниях к переводу байроновского «Дон Жуана», выполненному Шенгели, который заменил пятистопный ямб оригинала шестистопным ямбом: это ставили ему в вину разные критики – в первую очередь, конечно, И.А. Кашкин (о чем пойдет речь в главе IV), но также и другие, например М.А. Зенкевич[27]. Сам же Шенгели, напротив, считал требование непременно соблюдать формальные особенности стихотворного оригинала теоретически несостоятельным, поскольку оно не учитывает разницы в языках и в поэтических традициях разных народов, и отстаивал гораздо большую свободу для поэта-переводчика (см. гл. II).
9. Теория творческого перевода
Этот раздел основан на нескольких малоизвестных свидетельствах эпохи, в которых использовано понятие «творческий перевод». Само по себе слово «творческий» применительно к переводу часто встречается как хвалебный эпитет, однако, как видно из источников, в 1930-1950-е годы фразу «творческий перевод» использовали как полноправный термин, обозначающий желательный перевод подобно «адекватному переводу» или «реалистическому переводу».
Одно из этих свидетельств – первая редакция прежде не публиковавшейся статьи Георгия Шенгели «Поэтический перевод», датированная архивистами концом 1940-х годов:
Это простое соображение позволяет утверждать, что точность перевода является основной нормой переводного дела, – и это нужно сформулировать ясно и безоговорочно.
Однако, в переводческих кругах бытует вредная теорийка и еще более вредная практика так называемого «творческого перевода». Под этим пышным псевдонимом скрываются чаще всего продукты слабой переводческой техники, сильной лени и мощного неуважения к автору и читателю [РГАЛИ, ф. 2861, on. 1, д. 95, л. 63].
Другое свидетельство – это давно забытая статья Иоганна Львовича Альтмана «О художественном переводе», опубликованная в «Литературном критике» в 1936 г. Альтман не был ни переводчиком, ни теоретиком перевода – он был литературовед и критик; статьи его, как вспоминает Леонид Зорин[28], были «не только ортодоксальными, но и фанатически истовыми». В январе 1936 г. Альтман выступил с докладом «Культурная революция и проблемы художественного перевода» на Первом всесоюзном совещании переводчиков. Доклад и написанная затем на его основе статья «О художественном переводе» были посвящены общим вопросам перевода на примере главным образом переводов русских произведений на языки народов СССР и произведений народов СССР на русский язык. Доклад и статья эти примечательны, во-первых, тем, что в них в качестве термина, обозначающего наилучший метод перевода, используется фраза «творческий перевод», а во-вторых, тем, что они почти на 20 лет предвосхищают теоретические статьи И.А. Кашкина (и даже Г.Р. Гачечиладзе) с почти такой же риторикой. Вот одна из первых известных мне попыток сопрячь новорожденную теорию социалистического реализма с теорией художественного перевода:
…художественный перевод – это не ремесло, а искусство, причем искусство большое. Я тут же должен подчеркнуть, что социалистический реализм имеет к художественным переводам не меньшее касательство, чем ко всей советской литературе. Если социалистический реализм является основным методом советской литературы, то применительно к художественным переводам у нас существует один критерий – критерий истинности, критерий адекватной передачи оригинала. Это социалистический критерий оценки оригинала, социалистический – с точки зрения политическо-идейных требований и реалистический с точки зрения художественно-правдивого подхода к оригиналу, исключающий какое-либо искажение.
Социалистический реализм применительно к художественным переводам вовсе не означает натуралистическое копирование. Социалистический реализм в художественном переводе восстает против натуралистического копирования точно так же, как в сфере художественного творчества он восстает против натуралистического бытописательства, против фактографии, против регистрации вещей, против инвентаризации мира.
Но социалистический реализм выступает также против грубой тенденциозности. Что означает такая тенденциозность в отличие от художественной тенденции, заложенной в самом произведении? Это – искажение идейного содержания произведения. Это такая тенденциозность, которая не дает возможности правильно осмыслить произведение…
Социалистический реализм в художественном переводе резко выступает против формализма, в угоду звуку, ритму, мелодии искажающему смысл произведения; формализм словосочетание заменяет звукосочетанием. Формализм любуется внешней стороной художественного произведения. Художник-формалист видит преимущественно внешне-формальную сторону произведения, а не смысловое значение (как натуралист видит вещную сторону, предметную «фактуру» произведения и ее «переводит» а не само содержание) [РГАЛИ, ф. 631, оп. 6, д. 123, л. 38–39].
Обратим внимание на «врагов» «социалистического реализма в художественном переводе» – натурализм и формализм, о которых спустя почти 20 лет будет гневно писать И.А. Кашкин. Обратим также внимание на «грубую тенденциозность», или «искажение идейного содержания произведения», – и об этом будет писать Кашкин, уличая Г.А. Шенгели в том, что тот исказил идейное содержание байроновского «Дон Жуана».
В заключении доклада (и статьи в «Литературном критике») Альтман возвращается к противопоставлению лучшего переводческого метода, которому наконец подобрано название – «творческий перевод», – остальным:
Хороший музыкант-исполнитель верно передает замысел композитора. Однако, виртуоз передает произведение не только верно, но в то же время как-то по своему. Это – не только виртуозная техника, но и глубокое понимание сущности произведения. Виртуозный перевод не меняет композиции, не меняет смысла произведения и отдельных его частей, он добивается точного воссоздания, воспроизведения образов автора, но всегда вносит нечто свое, от своего языка, от своей культуры для более точной передачи духа переводимого произведения в целом и отдельных его нюансов. Это мы называем творческим переводом…
Творческий перевод всегда – жизненно-правдивый перевод. Творческий перевод не измышляет, не выдумывает и не сочиняет отсебятин, а правдиво и поэтически воссоздает литературное произведение на другой национальной почве…
Отсюда становится понятным требование социалистического реализма, борьба против натурализма, против формалистического, импрессионистического, экзотического и стилизаторского перевода.
Переводчик-натуралист пытается дать «точный перевод», но он никогда не в состоянии этого сделать. Точный, по его мнению, – это только дословный перевод. Но именно такой перевод, в котором следовали от точки до точки – чаще всего искажает смысл произведения[29]. Мы требуем полного идейного и словесного совпадения перевода с оригиналом, использования богатства языка, синонимов, метафор; мы требуем не дословного перевода (и тем более не подстрочного), а адэкватного оригиналу. Мы решительно против эмпирически-натуралистического перевода. В настоящее время, когда, в общем, политический, культурный, художественный уровень переводчиков на национальные языки еще не высок, натурализм является основным злом, основным бичом этой переводной литературы.
Но необходимо подчеркнуть большую опасность также формалистического перевода. Особенно велика эта опасность в поэзии, где часто, в угоду ритму, мелодии, звуковой форме стиха, искажается содержание. Творческий перевод в поэзии требует сохранения и содержания и формы, требует соблюдения размера и ритма – всей стихотворной системы, но не допускает искажений в содержании, во взаимоотношениях образов. Творческий перевод – это адэкватная передача содержания и формы. В большей мере таковы, скажем, переводы «Илиады» Гнедича и Минского. Таков перевод «Одиссеи» Жуковского, «Энеиды» Брюсова[30].
Нетрудно заметить, что натуралист и формалист смыкаются в искажении оригинала. Один обожествляет каждое слово и запятую оригинала, видя в них самоцель. Другой обожествляет внешнюю форму произведения, безотносительно к его содержанию.
Большое зло в переводческом деле – импрессионизм. Переводя «по настроению» по первому непосредственному впечатлению, переводчик-импрессионист полагает, что перевел отлично. Однако, «непосредственное» ощущение слова – отнюдь еще не все. Необходимо проверить это ощущение. Импрессионистский перевод включает в себя недостатки натуралистического и формалистического перевода. Переводчик-импрессионист также не воспроизводит полностью содержание оригинала…
Экзотика в переводческой практике также подчеркивает внешнее, формальное в произведении. Содержание реализуется в таком переводе, как специфическое, национально-ограниченное содержание. Экзотика консервирует изображаемое, умиляется стариной и самобытностью, как и стилизаторство. Стилизатор «округляет» острые углы произведения, лакирует стиль. Он грубо искажает произведение в угоду неправильно понятой национальной форме.
Необходимо подчеркнуть, что стилизаторы и поклонники экзотики презирают по существу национальные литературы. Они по-барски, по великодержавному, подходят к национальному творчеству, грабительски относятся к фольклору и т. п. Стилизаторы протягивают руку наиболее националистическим, реакционным элементам, еще не вышибленным окончательно из нашей литературы и притаившимся кое-где в надежде на «лучшие времена», которые, конечно, никогда для них не наступят [1936, с. 166–168].
Как будет видно из дальнейшего, «творческий перевод» Альтмана по своему описанию и по противопоставлению другим переводческим методам («натуралистическому переводу», «формалистическому переводу», «импрессионистическому переводу») поразительно похож на «реалистический перевод» И.А. Кашкина. Сам Кашкин, несомненно, был знаком с рассуждениями Альтмана: во-первых, он мог слышать его выступление на Всесоюзном совещании переводчиков, а во-вторых, статья Альтмана была помещена в том же номере «Литературного критика», где вышла статья Кашкина «Мистер Пиквик и другие». Таким образом, есть все основания полагать, что теория Альтмана – эта теория реалистического перевода в зародыше – легла в основу той теории реалистического перевода, которую выдвинет Кашкин в 1950-х.
10. Лингвистическая теория перевода
Лингвистическая теория перевода оформилась в СССР в 1950-е годы и связана с выходом в свет книги А.В. Федорова «Введение в теорию перевода» (1953 г.). Многие относят появление этой теории к более раннему времени: так, А.Д. Швейцер ведет историю лингвистического переводоведения от 1950 г., когда в сборнике «Вопросы теории и методики учебного перевода» появилась статья Я.И. Рецкера «О закономерных соответствиях при переводе на родной язык» [1987, с. 10], а по мнению самого Рецкера, «основы лингвистической
теории перевода в нашей стране были заложены Андреем Венедиктовичем Федоровым в 1930-х годах в курсе лекций по теории перевода, читавшемся им в Московском литературном институте имени М. Горького» [1974, с. 3], что, правда, выглядит уже некоторой натяжкой.
В 1950-е годы теория перевода воспринималась большинством неразрывно с практикой, причем не только как дисциплина, черпающая свой материал из практики перевода, но и как дисциплина, влияющая в свою очередь на практику и диктующая переводческий метод. Неудивительно поэтому, что Федорова ждало непонимание и, как он жаловался, предпринимались «попытки отождествить лингвистическое изучение вопросов перевода с формализмом или даже буквализмом, а то и приписать автору некий “лингвистический метод перевода” (!), будто бы рекомендуемый им (хотя по самому принципу работы от каких-либо нормативных указаний, или “переводческих рецептов” он всегда воздерживался)» [1968, с. 6].
В чем же провинился Федоров? Определяя в своей книге 1953 г. предмет теории перевода и ее место в ряду других филологических дисциплин, он писал:
…поскольку перевод всегда имеет дело с языком, постольку перевод всего больше требует изучения в лингвистическом разрезе – в связи с вопросом о характере соотношения двух языков и их стилистических средств. Более того: изучение перевода в литературоведческой плоскости постоянно сталкивается с необходимостью рассматривать языковые явления, анализировать и оценивать языковые средства, которыми пользовались переводчики. И это естественно: ведь содержание подлинника существует не само по себе, а только в единстве с формой, с языковыми средствами, в которых оно воплощено, и может быть передано при переводе тоже только с помощью языковых средств. Роль перевода для литературы той или иной страны, переосмысления или искажения подлинника в переводе – всё это тоже связано с применением определенных языковых средств. Психология перевода имеет дело с отношением языка к мышлению, с языковыми образами. Тем самым изучение перевода в плане как истории литературы и культуры, так и психологии невозможно без изучения его языковой природы.
Лингвистический разрез в изучении перевода имеет то важнейшее преимущество, что он затрагивает самую его основу – язык, вне которого неосуществимы никакие функции перевода – ни общественно-политическая, ни культурно-познавательная его роль, ни его художественное значение и т. д. Вместе с тем лингвистическое изучение перевода, т. е. изучение его в связи с соотношением двух языков, позволяет строить работу конкретно, оперируя объективными фактами языка. Всякого рода исследования и рассуждения о том, как отразилось при переводе содержание подлинника и какую роль оно сыграло для данной литературы, будут беспредметны, если не будут опираться на анализ языковых средств выражения, использованных при переводе.
Теория перевода, как специальная отрасль филологической науки, является дисциплиной лингвистической прежде всего. Правда, в ряде случаев она весьма близко соприкасается с литературоведением – историей и теорией литературы, откуда черпает ряд данных и положений, и с историей тех народов, языки которых она затрагивает. Советская теория перевода опирается на философию диалектического материализма, в свете которой только и может быть правильно решен вопрос об отношении языка к мышлению. Но тесная связь теории перевода с этими науками не меняет ее специфики, как дисциплины лингвистической [1953, с. 13–14].
В союзники себе Федоров призвал марксистское языкознание в том виде, в котором оно преподносилось в вышедших незадолго до того статьях Сталина. В разделе своей книги, озаглавленном «Насущные вопросы теории перевода в свете трудов И.В. Сталина по языкознанию», он писал:
По прежнему необходима борьба с идеологическими извращениями в деятельности самих переводчиков и с попытками теоретического оправдания переводческого произвола, с пережитками марристских концепций, выражающимися и на практике и в теории в том, что умаляется роль языка при переводе, а вместе с тем ставится под сомнение и возможность лингвистического подхода к вопросам перевода[31] [1953, с. 102].
Позиция Федорова вызвала сильное раздражение у переводчиков, намеревавшихся строить теорию художественного перевода на другом – не менее благонадежном, чем марксистское языкознание, – фундаменте: на теории социалистического реализма. Раздражение это подогревалось еще и тем, что «Введение в теорию перевода» Федорова на долгое время осталось единственным официально утвержденным учебником по теории перевода. «На карте Федорова остается белое пятно – эстетика художественного перевода, то есть, по сути дела, центральная проблема всей теории перевода художественной литературы», – говорил П.Г. Антокольский [Антокольский и др., 1956, с. 254]. «В этой книге перевод, в том числе и художественный, характеризуется как “форма творческой деятельности в области языка”[32]… Ни разу в книге А.В. Федорова не упоминается о том, что художественный перевод – это форма творческой деятельности в области литературы», – писал А.М. Лейтес [1955, с. 103].
Но особенно негодовал на Федорова И.А. Кашкин. Сохранилась стенограмма его выступления 1956 г., где он отзывается о книге Федорова так:
Спрашивают меня: Скажите о Вашем отношении к книге «Введение в теорию перевода» Федорова.
Я могу в двух словах ответить на этот вопрос, но тут придется тоже процитировать. Если бы книга Федорова была задумана и выдержана как «Введение в технику общего перевода»[33], я бы не имел к ней особых претензий. Она написана со знанием дела, в ней много правильных деклараций, но она дает вексель решения ряда вопросов перевода художественной литературы, она привлекает историю художественного перевода, а не вообще перевода, она дает примеры из художественных текстов.
Рассказывают: на одной из выставок ходил по залам важный меценат, который мог купить много картин. За ним ходили критики, художники, а он ходил и молчал. Ходил, ходил, подошел к картине, на которой был изображен городской пейзаж и забор, долго смотрел и наконец изрек: «Да, такие заборы бывают» (смех).
Понимаете, в чем дело. Как будто, правильно все, но, говоря о художественном переводе, нельзя забывать о чуть-чуть, которое и характеризует искусство, а этого чуть-чуть в этой книге Федорова нет. Он как будто извиняется за то, что в предыдущей книге 1941 г. он допустил некоторые перегибы в сторону [нрзб.] и тут выплеснул ребенка вместе с водой, ребенка – художественную специфику. И когда нужно довернуть, дожать, отеплить рукоятку своей рукой, оживить восприятие художественного перевода, этого он не делает. Это, до известной степени, книга для ремесленников, ремесленная книга, не для мастеров. Возможно, что Федоров напишет другую книгу и опять повернется на 180°, и будет говорить о всяких тонкостях, как говорил о них в 1941 г.[34]
Кроме того, если взять эту книгу с чисто лингвостилистической точки зрения, то она сужает и вульгаризирует лингвистический подход к вопросу. Среди лингво-стилистов были такие люди, как акад. Щерба, сейчас тонко разбирающийся в некоторых вопросах
проф. Будагов. А о чем говорит Федоров? Он берет художественный пример из Мериме и на стр. 164 своего «Введения» анализирует такую фразу: «он подошел к своему коню, который воспользовался сном хозяина, чтобы плотно пообедать окрестной травой»[35]. С точки зрения лингво-стилистики А.В. Федорова интересует в этой фразе: «Насколько изменены и грамматические категории внутри отдельных словосочетаний: так, например, вместо слов оригинала foin un bon repos, т. е. сочетания: инфинитив + прилагательное + существительное, – мы видим наречие (“плотно”) с одним глаголом (“пообедать”), заменяющим два слова подлинника (глагол + существительное); там, где в оригинале сказано de l’herbe aux environs (существительное + предлог + существительное) – в переводе “окрестной травой” (сочетание прилагательного с существительным)». Однако читателя, да и литературного переводчика, интересует скорее стилистическое качество отобранных слов и уместность их соединения в данном контексте. Например, выбор синонимов в соответствии с общей стилистической окраской и т. п. Ему интересно, почему конь обедал, а не закусил, и когда он завтракал, и ужинал ли он столь же плотно. Его может заинтересовать, когда же конь успел пообедать окрестной травой (очевидно, на всех окрестных лужайках), не сходя с места; почему он обедал «окрестной травой», а не просто травой, и что под ногами. Но это тов. Федорова не интересует, когда он выступает в качестве лингвостилиста[36]. <…>
Вот вам, собственно говоря, что такое в ряде случаев метод Федорова. Если переводчик, по мнению Федорова, должен судить не выше языка, а проблемой литературы должен ведать кто-то другой, то тем самым книга Федорова отучает переводчика от литературы, говоря «нет стилистики кроме лингвостилистики, а все прочее литература».
Федоров несколько раз говорил, что ему надоел литературоведческий уклон (см. стр. 92 «Введения»)[37], он говорил о литературоведческой болтовне перевода.
Вот то, что касается Федорова [РГАЛИ, ф. 2854, он. 1, д. 126, л. 14–18].
Постепенно, к середине 1960-х годов, споры между защитниками лингвистического и литературоведческого взгляда на теорию перевода вообще и художественного перевода в частности стихли. Сборник «Теория и критика перевода», изданный при Ленинградском университете в 1962 г., открывался обращением Б.А. Ларина, который говорил, что спор о том, к какой науке – лингвистике или литературоведению – должна относиться теория перевода, свидетельствует только о ее незрелости, и призывал, «оставив нелепые споры и преодолев детскую болезнь пренебрежения к теории, продолжать теоретическую работу на двуединой научной базе – лингвистики и литературоведения» [1962, с. 3–4].