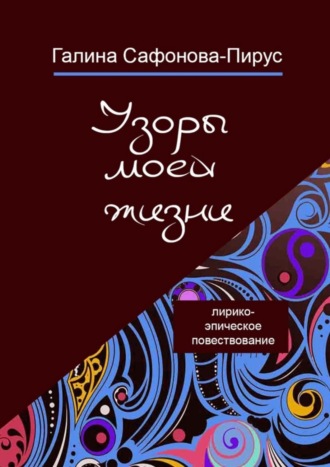
Полная версия
Узоры моей жизни

Узоры моей жизни
Галина Сафонова-Пирус
© Галина Сафонова-Пирус, 2023
ISBN 978-5-0060-8432-2
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Как распутать разноцветные «нити клубка», из которых соткалась моя жизнь? Найти бы ту, единственную, которая потянула за собой остальные! Но «нити» оборваны, спутаны и поэтому буду ждать подсказок от воспоминаний, ассоциаций, чтобы из предлагаемого ими калейдоскопа выбрать то или иное событие, образ и, найдя новые оттенки, вплести проявленное в узор своего «ковра» жизни. И не будет в нём чётких рельефных орнаментов, а станет он больше похож на полотна абстракционистов.
Всё, всё конечно в этой жизни бренной, —явления и жизни промелькнут чредою сменнойлишь сохранив во мне тот самый свет,который соткёт клубки фантасмагорий.И стану их распутывать старательно,и буду вглядываться в них внимательно…А «холстом» для моего узора послужит временной период с 2010 по 2020 год, и вплету в него когда-то сделанные записки, наброски, зарисовки, воспоминания, переписку с интересными людьми, миниатюры о природе и даже сны, ну а воспоминания… Память своевольна, капризна, она спонтанно и вдруг подсовывает то, что, казалось бы, навсегда затерялось во времени, и делает это тогда… Нет, не знаю тот день и час, когда подбросит то или иное воспоминание и лишь буду доверяться ей.
Но только б не грустить!Ведь если я пред сменой жизней так бессильна,то предстоящему оставлю вклад посильный, —детей, деревья, да и всё, что сделаю на этом свете.И то – моё участие в извечной эстафете.Часть 1
Солнечно, тепло, – весенний день?.. Я стою и смотрю на только что вымытые широкие половицы крылечка, на свои голубые туфельки и рукав синего пальто в красных, желтых, зеленых точках-капельках. Сколько лет мне было? Не знаю. Но жили мы тогда в воинской части под Лепелем, куда папу перевели в очередной раз. А если так, то ниточка тянется к воспоминаниям мамы, которая рассказывала о тех белорусских местах:
«Там же вокруг всё болота да леса дремучие были, и деревья такие стояли, что только вдвоем и можно было обхватить. А сколько ж змей и гадюк в них водилося! Повесила я раз гамак во дворе, выхожу утром, глядь… Что ж это мой гамак такой серый? А на нем – ужи. Обвили его весь и висять1. Господи, умерла я прямо!.. А раз за бойцом гадюка погналася, да такая здоровенная! Ну, как удав всёодно. Так что ж, как догонять его станить, а он прыг за дерево! А этот змей ка-ак налятить на это дерево да как ударится об него! Пока опомнится, солдат убегать. Так и ушел».
В Белоруссии жили мы недолго и, вернувшись за два года до начала войны2 на родину, в Карачев3, где и пережили оккупацию. (до августа 1943 года) Тщусь что-то выхватить из памяти, оживить, «отряхнув пыль забвения» о тех днях, но была еще совсем маленькой и удержалось немногое.
Я сижу на коленях у брата Николая (заехал к нам перед отправкой на фронт) и громко плачу, а он держит перед моими глазами бутылку, вроде как собирая слезы и говорит:
– Посмотри сколько наплакала! Может, хватит?
И я, удивлённая тем, что бутылка почти полная, успокаиваюсь.
…От шалаша, построенного над вырытой ямой (немцы выгнали нас из хаты) я бегу к нашему дому, возле которого стоит немец с коробкой в руках, из которой… я знаю, знаю!.. сейчас достанет горстку лакомства, – маленькие квадратные печеники.
…Стою на табуретке у окна и вижу, как в туманной изморози растворяются, удаляясь, два человека. Наверное, в тот момент слишком плотная аура горя соткалась в семье, если в моей детской головке сохранилась эта «картинка»: те удаляющиеся были немецким солдатом и сестрой мамы тетей Диной, которую арестовали за участи в подполье.
…Передо мной бесконечно высокая стена из спрессованного песка, я запрокидываю голову, чтобы взглядом дотянуться до ее края, увидеть небо, но только – песок, песок… Он же – и под ногами. И было это уже в 43-м, когда немцы опять выгнали нас из хаты, и мы ушли в противотанковый ров, чтобы прятаться там от угона в Германию.
…Из того самого рва в день освобождения Карачева возвращаемся к нашей сгоревшей хате по предосеннему скошенному полю ржи, по нему едут машины, суетятся солдаты и вдруг!.. Все лежат, прижавшись к земле, а я стою и смотрю на вздыбившийся и уже медленно оседающий столб земли. А когда пришли к нашему сожженному дому… Да, вижу и теперь то обгоревшее дерево с черными грушами и даже ощущаю их горьковатый вкус.
…Еду готовили на костре, ели из жестяных банок, оставшихся после солдат и вот… Я плачу, из пальца течет кровь, а брат стоит напротив и что-то делает с консервной банкой, из которой я только что ела и о край которой порезала руку.
…А это память сохранила довольно ярко, и я как бы смотрю на себя со стороны: на подоконнике сидит бледная, лысая, темноглазая девочка, до самого подбородка закутанная в серое одеяльце, смотрит в окно. И вдруг по дороге катится мячик, большой синий мячик!.. и – никого… и мячик одиноко лежит в пыли. Девочка хочет позвать маму, сказать о мячике, но не может, – после тифа онемела. Но мячик лежит, лежит!.. его никто не берёт! И вдруг:
– Ма-ма… Мячик…
И подбегает мать:
– Дочка заговорила! Ну, слава богу! Думала, что немой останется.
Когда, с каких лет на моём «белом листе» юной человеческой души начали проявляться «письмена», начертанные генной памятью и желание удержать ускользающие мгновения? Может с четырнадцати лет, когда открыла тетрадку и написала в ней первые несколько строк?
Из записок. 1954.
«Почти весь день падает и падают лохматые снежинки. Очень красиво. Но я сижу на печке, слушаю по радио музыку и пишу эти строчки. Как же хорошо за шторочками!»
Как же отрадно было, прибежав с улицы и сунув промокшие варежки в печурку, залезть на печку по лесенке, сколоченной папой из толстых досок, задернуть шторки и читать книжки или слушать репродуктор, похожий на чёрную вьетнамскую шляпу. И был он для меня учителем более интересным, чем школьные, ведь предлагал сколько постановок, классической музыки, стихов и поэм! И до сих пор помню строки:
…И от той гармошки старой,Что осталась сиротой,Как-то вдруг теплее сталоНа дороге фронтовой…И забыто – не забыто,Да не время вспоминать,Где и кто лежит убитыйИ кому еще лежать.И кому траву живомуНа земле топтать потом,До жены прийти, до дому, —Где жена и где тот дом?А читал тогда эту поэму Твардовского4 диктор Юрий Левитан5, и читал так, что и до сих пор почти слышу его голос:
И с опушки отдаленнойИз-за тысячи колесИз конца в конец колонны:«По машинам!» – донеслось.И опять увалы, взгорки,Снег да ёлки с двух сторон…Едет дальше Вася Теркин, —Это был, конечно, он.Мой папа и старший брат Николай (в 41-м было ему 16 лет) прошли всю войну, и брат вначале попал на передовую, потом стал прифронтовым шофером, а папа, работая до войны в пожарной части, – после бомбёжек тушил пожары, – был ранен, контужен и, хотя с войны возвратился, но уже в 1946-м уехал в московский госпиталь, где вскоре умер от ползучей парализации.
Помню об отце очень мало, но вот такое иногда всплывает отчётливо: он сидит на нашей русской печке, свесив босые ноги, я щекочу его за пятки, он поднимает ноги выше, выше, я смеюсь, смеётся и он.
Но осталась фотография папы: он – в военной гимнастерке со стоячим воротником, застегнутым на две пуговицы, подшитым белой сменной стойкой, у него продолговатое лицо, гладкие, густые тёмные волосы, открывающие высокий лоб, прямой нос, большие губы с уже обозначившимся треугольником складок в уголках, чуть лохматые брови, а мешки под глазами оттеняют застывшее в них напряжение и опустошенность тоски, – был уже болен.

Сафонов Семён Афанасьевич. 1903—1947.
«Обнаружить и проследить на протяжении жизни развитие тематических узоров и есть задача мемуариста». Владимир Набоков6
Но как найти и чётко прорисовать те самые «узоры»? Помоги, память!
Речка Снежка… Тогда еще бойкая, с прозрачной водой, с песчаными бережками и на дне, с извивающимися косами водорослей, и я – с корзинкой в руках. Опускаю ее навстречу течению, завожу под косу, болтаю ногой, вспугивая рыбёшек, а потом рывком поднимаю. Быстро-быстро с шумом исчезает вода, а там, на дне трепыхается, бьется о прутья рыбка, плотвичка серебристая. О, радость! О, запахи воды, тины, сырой корзины!.. И хотя потом отпущу эту маленькую серебристую рыбку, но ведь видела ее, видела!.. она была в моих руках!
…Наконец-то земля оттаяла и чуть подсохла, а, значит, можно идти на огороды, что зачернели там, у речки, и рыть, рыть… Копнёшь лопатой раз, другой… восьмой, девятый и – о радость! Из черного влажного отвала земли вдруг улыбнётся промерзший светло-коричневый клубень. Осторожно, чтобы не прорвать кожуру, возьмёшь его, – почему-то он легко отделялся от земли, – бережно положишь в котелок и снова лопатой – и раз, и другой, десятый… Нет, в том была истинная радость для меня, восьмилетней девочки, в еще сырой земле, находить весело подмигивающие под солнцем клубни и складывать в котелок. Потом мама снимала с них тоненькую кожуру, перекручивала через мясорубку, добавляла лука, муки, – если та была, – и выпекала гопики. Но поскольку подсолнечное масло в те годы было редкостью, то смазывала сковородку жёстким и поэтому неубывающим куском сала, который гулял от одной соседки к другой. И такой гопик однажды я выменяла у подруги на булку, – той не захотела её есть потому, что оказалась непропеченной, да и гопика ещё не пробовала, – а она с осторожностью откусила от него, пожевала и выплюнула. Я удивилась. А от её булки, отщипывая по маленькому кусочку и обсасывая зубы, вязнувшие в непропеченном, чуть горьковатом тесте, до самого вечера наслаждалась забытым за годы войны вкусом, недоумевая: и как она могла отдать мне такое лакомство? Конечно, оладьи из мёрзлой картошки таковыми не были, но пока соседи не вскопали свои огороды возле речки, мы были сыты весенними гопиками, – только не ленись!
Дом детства нельзя позабыть,ведь в нём моё «я» зарождалось, —душа словно в люльке качалась.Дом детства нельзя позабытьи верной душе не остыть,в каких бы мирах не скиталась.
Наш дом в г. Карачеве, построенный после окончания войны. (1946).
Наша память капризна, она сохраняет лишь то, что сочтёт нужным, поэтому многое подсказывают мои дневники.
Из записок. 1951
«Улей стоит у нас в доме и сегодня брат осмотрел пчёл. Оказалось, что половина их вымерла. Как жалко! Все лето они собирали мед, гибли в дождь, пропадали в полетах, а мы этот мед у них отняли и вот они погибли от голода. Мама собирается поставить погибшим пчелкам свечку, а мне перед оставшимися даже стыдно, ведь к нам относится цитата Радищева7: «Они работают, а вы их труд ядите».
С четырнадцати лет я начала вести дневниковые записки, и это означало, что жизнь начинала подсказывать мне размышления над тем, что происходило рядом. И дальнейшее преображение моей души зависело от тех «семян», которые были и будут заронены теми, кто был рядом, – мамой и братом Виктором. А старший брат Николай, который вернувшись с войны поступил в институт, потом по распределению уехал с женой в Совгавань, а вернувшись, стал жить у ее родителей в Ленинграде.
В то время Виктор работал преподавателем физкультуры в деревне под Карачевом и, приезжая домой, привозил мне гостинец, – несколько пряников… нет, тогда они назывались жамками и почему-то всегда были чёрствыми, но когда я залезала на печку и грызла их, то казались они мне таким лакомством!
Не могу вспомнить, сохранилась ли обида на брата хоть за что-то? А, впрочем…
Я лежу на печке и с увлечением читаю роман «Кавалер золотой звезды». (Удивительно, но так отчётливо запомнилось, что именно роман этого прославленного тогда писателя Семена Бабаевского.) Так вот, читаю, но входит Виктор, спрашивает: что за книга? Показываю. А он хватает её и бросает под стол. Я – в слёзы! Но он даже и утешать не стал, а только сказал: «Никогда не забивай голову барахлом». И других обид не помню, а вот такое… Я пошла встречать корову из стада, но та пришла сама, а меня мама нашла в двенадцатом часу ночи висящей на заборе Городского сада, – шел концерт заезжих артистов, – и гнала домой толстой верёвкой, – вбежала я в дом, забилась меж кроватью и стенкой, ожидая: вот-вот достанет! Но вступился брат, прикрыв собой:
– Да ладно, прости её. Она больше не будет.

Я и мама. Фото сделано в послевоенные годы (1947 год).
Почему записала тогда, в четырнадцать лет, песню, которую пропела мама, что подтолкнуло? Может, потому, что именно тогда созрело в душе сознание навсегда ускользающих мгновений, которые хотелось сохранить?
Уж ты реченька,Речка быстрая, вода чистая,Что ж ты, речушка, стоишь,Не всколыхнешься,С пододна песком не возмутишься?«Да как же мне речушке всколыхнутеся,Как мне, быстрой возмутитеся?Я уж, речушка, тростником заросла,Да я уж, быстрая, тынью заплыла».Как на горочке стоит горенка.В этой горенке сидит свет-Наташенька.Но сидит она невесела,Буйну голову повесила.Приходят к ней подруженьки-соседушки:«Что же ты, Наташенька, невесела,Буйну голову повесила»?«Сестрицы-подруженьки,Как же мне быть веселою?Ведь вскормить, вспоить, меня было кому,А проводить, благословить некому.У меня гостей полна горница,Одного только нет – гостя милого,Гостя милого – батюшки родимого.Ой, вы, ой, поднимитеся, ветры буйные,Ветры буйные, ветры сильные.Да вы разнесите пески желтые,Пески желтые во все стороны.Да откройте вы дубовый гроб,Поднимите из него гостя милого,Гостя милого, батюшку родимого.Обниму я его, припаду к немуИ спрошу у него благословения».«Да ты не плач, не рыдай, свет Наташенька!Благословит тебя родная матушка,А встретит тебя сокол Серёженька.Ассоциации… Вы вспыхиваете неожиданно и какими-то неведомыми путями вбрасываете в то, что, казалось бы, скрылось навсегда.
Иду по аллее парка, любуюсь резными деревянными скульптурами, нежностью весенней зелени, вдыхаю влажный, напитанный свежестью воздух, смотрю на весёлую игольчатую зелень травы, пробившейся сквозь сухие прошлогодние листья, и от всего этого в душе трепещет радость торжествующей жизни, молодости! Но вдруг: «Как же грустно, что тогда наша Зорька не дожила до такой травки!»
А была она в послевоенные годы нашей кормилицей и спасительницей. Тогда на семью по карточкам выдавали буханку хлеба в день, картошины без соли и масла были почти лакомством. А корову зимой мы кормили соломой, – на сено не было денег, – и остатками от вывезенных колхозниками стогов сена, за которым мама ходила в поле, раскапывая из-под снега, где её однажды чуть не подстрелил охотник, в сумерках приняв за волка.
Ходили мы с мамой за шестнадцать километров от Карачева в деревню Юрасово8 и к заводу, на котором из свёклы делали спирт, отходы выливали и назывались они бардой. В мороз она не замерзала, поэтому раз в неделю, раненько утром, устанавливали мы на санки бак и отправлялись за нею, а когда возвращались, то мама тянула за веревку, а я, десятилетняя девчонка, толкала санки сзади, барда иногда выплескивалась мне под ноги и мои бурки9 на морозе покрывались ледяной коркой.
И всё же наша Зорька не дотянула до весны. В марте, когда стало пригревать солнышко, мама вывела её на огород погреться, а она легла и не встала. Когда пришел ветеринар, то сказал, что лечить её нечем, и на другой день, придя из школы, я не увидела нашей Зорьки.
Молодым душам присуща романтика. Была она и во мне, тем более, что социалистическая пропаганда твердила: «Всё – для блага человека, всё – во имя человека», а значит, и свою жизнь я была должна прожить для «блага» и «во имя». И пусть в этой моей дневниковой записи в шестнадцать лет – полная романтики риторика, но ведь верила в то, о чём писала.
Ветер холодный, резкийВ лицо мне бросает снегом,Срывает одежду дерзкий,Морозит душу и тело.И всё ж не пойду дорогой,Которой другие крадутся.Для них этот ветер – попутный,Назад им уже не вернуться.Пусть бури воют, тоскуя,Пусть яростней год от года,Но дань свою донесу я —Искру тепла для народа.…На распутье дорог стоит слепой юноша. Восходящее солнце золотит его русые волосы, несколько прядей спадают на высокий лоб, и чудная игра чувств – на лице! Ведь сейчас он с радостной надеждой вслушивается в незнакомый женский голос: «Возьми посох и иди по одной из лежащих перед тобой дорог. Иди, не сворачивая, не дрогнув сердцем даже тогда, когда твой путь будет усеян терниями, когда сладкий голос будет звать в уютное обиталище. Знай! Если ты поселишься в нём, то дни твои будут спокойны, но навеки ты останешься слепым. А если у тебя хватит мужества до конца пройти избранный путь, то ты прозреешь и, увидев мир с высоты Человека, насадишь прекрасный сад, к цветам которого придут такие же незрячие, как и ты, чтобы, вдохнув их аромат, запастись силами для пути к своему прозрению. Так иди же, иди! Я благословляю тебя на этом пути».
Полянка перед домом с муражкомзелёным, мягким.И босоногие подружки сс игрой весёлой то в лапту, то в пряткидо самых сумерек поздних.Уже и мать зовёт…Но так не хочется в кровать!Еще бы поиграть! Но звёзды ярче, ярче……В саду играет духовой оркестр,и вальс зовёт туда, на танцплощадку.Потом поманит танго радиолы,закружит «Риорита» с ним, желанным!…Ах, эти давние, волшебные мгновеньямелькнувшей юности,– зовущих светлых снов!Куда умчались и в какие дали?
Моя мама, Сафонова Мария Тихоновна. 1903—1994
Свою книгу «Родники моих смыслов» я начала такими словами:
«Держу перед собой документы о своих предках, выданные областным Архивом, и читаю: „Крестьяне слободы10 Рясника: Христофор Иванов Потапов, его жена Марфа Казмина, его сын Никита, жена Мария Казмина, дочь Пелагея…“ Читаю их имена и кажется, что с укоризной смотрят они на меня из тёмного небытия. И зарит совесть, что так мало знаю о них. Но хочу, хочу избавиться от этого стыда-незнания. Так пусть же любопытство моё и терпение помогут докопаться до значения незнакомых речений и, хотя бы размыто, – словно в тумане, – увидеть их, моих далёких предков, узнать, как жили, о чём тревожились, чему радовались, как одевались. А обернуться в незнаемое пособят мне рассказы мамы, Интернет и эти архивные документы с выписками из реестров канувших в Лету годов».
Мои предки по отцовской линии, – прадед Илья и дед Тихон Сафоновы (или Листафоровы, как мама называла родню Сафоновых, ибо у прапрадеда было имя Христофор), – крепостными не были и происходили из экономических11 крестьян слободки Рясники, что в двух километрах от районного города Карачева. Как говорила мама, «трудилися они не покладая рук», поэтому и жили крепко: две хаты у них было, в одной сами жили, корм скоту готовили, воду обогревали, а в другой гостей встречали, праздники праздновали. Да и подворье было большое: штук десять овец, гуси, свиньи, три лошади, так что работы мужикам хватало зимой и летом, осенью и весной. Как только сойдёт снег, земля чуть прогреется, начиналась пахота, и пахали тогда сохой, сажали под соху (только в начале 20-го века появились плуги на колёсах) и мама рассказывала: «Соху-то в руках надо было держать, вот и потаскай ее цельный день! Посеить мужик, не перевернулся – сорняки полезли, да и картошку пора окучивать, а ее по два раза сохой проходили и во-о какие межи нарывали! Потому и вырастала с лапоть12. Чего ж ей было ни расти? На навозце, земля, что пух, ступишь на вспаханное поле, так нога в земле прямо тонить! А сколько трудов было косами да серпами рожь скосить, убрать, цепами13 обмолотить! А если сырая была, то свозили её сушить на рыгу (местное слово). Перевезуть, расставють снопы и уже дед Илья цельными днями её сушить, сжигаить солому, суволоку14 и только потом молотили. Пока бабка встанить да завтрак сготовить, мужики копну и обмолотють в четыре цепа. В хороший год пудов по десять с копны намолачивали. Ну, а если не управлялися, свозили её в сараи и складывали адонки15, а под них слой дядовника укладвали, мыши-то не полезуть туда, где дядовник. Вот и стоять потом эти адонки, а когда управлялися с урожаем, начинали молотить. И какой же потом хлеб душистой из этой ржи получался! Пшеницы-то тогда у нас еще не сеяли, и пшаничную муку только на пироги к празднику покупали, а так всё лепешки ситные пекли. Высеють ржаную муку на сито и замесють тесто. Да попрохОней, пожиже ставили, а потом его – на капустный лист и в печку. Бывало, все лето эти листья ломаешь, обрезаешь да сушишь, сушишь… Помню, дед Илья уже и старый был, а всё-ё ему и зимой покою не было, и особенно, когда овцы начинали котиться. Ведь он же тогда из сарая и ночами не выходил, – не прозевать бы ягнят! Окотится овца, сразу и несёть ягненка в хату. И вот так отдежурить несколько ночей, а потом как повалится на кровать прямо в валенках, в шубе и сразу захрапел. А разве поспишь днем-то? Тут же со скотиной управляться надо, или сын с извозу16 приехал, надо лошадей отпрячь, накормить, напоить».

Такими могли быть мои предки.
Да, немногое я узнала от мамы о своём прадеде Илье и его жене Марии. А работала она в гостинице Карачева (Рясники – в двух километрах от города) и эту двухэтажную гостиницу построили в конце 19 века, когда мимо Карачева прошла железная дорога17 и «в ход пенька пошла», которую перерабатывали на пенькотрепальной фабрике, делая из неё веревки, канаты, за которыми приезжали купцы даже из других стран. Мать прабабки Марии умерла рано, пятеро девочек остались с батей, так что, когда за какую-либо сватались, он сразу и отдавал её замуж. Просватали и Марию за Илью, когда была она еще совсем девчонкой. Был он простоватый и со слов мамы не любила она его всю жизнь. Детей от мужа Мария иметь не хотела, а когда надумала, то засобиралась идти в Киев, чтобы «ребеночка себе вымолить». Дали им таким, как она, по гробику, и должны они были всю обедню отстоять с ним на голове, а когда вернулась из Киева, то объявила, что у нее будет ребенок, которого назовут Тихоном. Знаю я про него, моего деда, совсем немного и со слов мамы был он красивый, грамотный, читал книги и всё никак не находил себе по нраву невесты, но когда увидел мою бабушку Дуню Болдареву, жившую на другой стороны Карачева в слободе Масловка, то сразу и влюбился. Поженились, жили в любви, пока не случилась беда, – началась на Ряснике эпидемия тифа (1909 год, маме было 6 лет), от которого он умер. И было ему всего двадцать восемь лет. Осталась бабушка Дуня вдовой с четырьмя детьми, ранее крепкое хозяйство понемногу разваливалось. Одну лошадь она продала еще на похороны мужа, через полгода – еще одну, а когда помер самый маленький сын, продала и последнюю. Какое-то время семья жила на бывшие запасы, а когда закончились, пошла бабушка Евдокия работать на пенькотрепальную фабрику.
По её линии предки мои были воинами, охранявшими южные границы России, за что получили звание дворян-однодворцев18 но с годами от службы отошли, осели на земле и позже прадед мамы служил писарем в волости, поэтому его дети, внуки, правнуки были грамотными.
«Бывало, в праздничный день сходють к обедне, а потом – читать: дедушка – Библию, бабы – Акафист. Они-то к обедне не ходили, надо ж было готовить еду и скоту, и всем, поэтому так-то толкутся на кухне, сестра моя Дуняшка им Акафист читаить, а они подпевають: „Аллилуйя, аллилуйя… Го-осподи помилуй…“ Так обедня на кухне и идёть».
Своего деда Алексея мама вспоминала с особенной теплотой, ведь он всегда помогал своей рано овдовевшей дочери управляться с землёй, приезжая со слободы Масловки.
«А было у дедушки пятеро детей, – две дочки и три сына: старший Иван, Николай и младший Илия. Бывало, как возьмутся рожь жать, так сколько ж за утро и скосють. Дядя Илюша особенно сильный был. Рассказывали, поедить с мужиками в извоз и, если вдруг покатятся сани под раскат, так подойдёть да как дернить их за задок, так и выташшыть сразу».
Двор у Писаревых (фамилия их была Болдыревы, а Писаревыми стали позже потому, что прадед служил писарем) был просторный, – конюшни, закутки, подвалы, – а недалеко от дома стояла рига и амбары, в которых хранили муку, там же рушили крупу, отжимали масло, так что на кухне всегда стоял бочонок с конопляным. Было много и скотины: три лошади, две коровы, овцы, свиньи, жеребенок, телята и для того, чтобы накормить это «стадо», сеяли гречиху в два-три срока, а солому гречишную запасали на корм скоту. Держали Писаревы и пчел, так что лакомились мёдом. Дед Алексей был верующим, в его хату часто сходились слобожане и он читал им божественные книги про святых, про разные чудеса:









