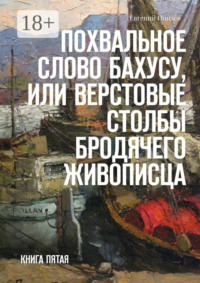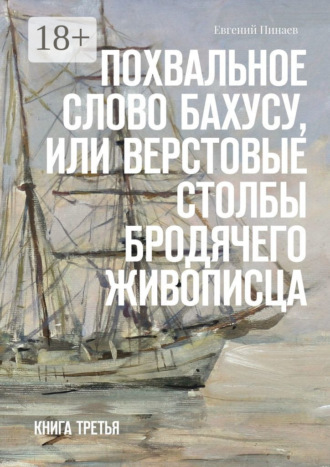
Полная версия
Похвальное слово Бахусу, или Верстовые столбы бродячего живописца. Книга третья
От А. И. и сынов её тебе приветствия. Передаю труб… ручку Вектору Сегментычу, объемля твои телеса».
Надо сказать, что эти двое были земляками, учились в одной школе и посещали литературный кружок, поэтому Вектор разразился стихотворным опусом:
«Ох, ты гой еси, дорогой моряк!Шибко борзо ты в свете странствуешь.Докладу тебе, ясно солнышко:Без фигуры твоей всем нам горестно.Водка стала не всласть,А без песен твоих мой баян всё мычит,Токмо грусть-тоску разливает он.Не взревел никто «Танго смерти» нам,И тосты мои пролетарскиеПоддержать вдвойне было некому.Хоть почаще пиши письмена друзьям,Знай, что ждут они твоей весточки,Как не ждали ишо даже праздников —Распоследних отрад в жизни горестной.А вообще, Михваныч, жизнь в норме. На прощанье сердешно лобызаю, а ещё сильней желаю я тебе, скиталец мой, чтоб с попутною чугункой воротился ты домой. Это – к слову. Вектор».
На сердце пролился бальзам, душу будто елеем смазали: помнят!
Я спустился в буфет, взял три кружки пива и что-то пожевать, а потом, здесь же, за столом, уподобившись Хемингуэю, написал друзьям свой «праздник, который всегда со мной». Всё-таки славное было время. Мы жили в ПРОСТУДЕ душа в душу и, доверяя друг другу, всегда поверяли все горести и печали, не говоря уж о радостях, которые чаще всего были общими. И девчонка, которую я любил, несколько раз появлялась в старом доме на Нагорной. Друзья мои были знакомы с ней, и если в письме о ней не было ни слова, значит, им нечего было сказать, они её не встречали, они тоже не знали, где она, и, скорее всего, думали, что всё уже похерено мною и давно забыто, – слишком много воды утекло с тех пор.
БАРКЕНТИНА – ш х у н а —б а р к (англ. barkentine), мор. парусное (3—6 мачт) судно с прямыми парусами на фок-мачте и косыми на остальных. Б. Строились в ХIХ – нач. ХХ в. и использовались для торговых и учебных целей.
Морской словарьКапитан подмахнул моё заявление, сделал в трудовой запись о приёме на работу, тиснул печать и упрятал документы в крохотный сейф, стоявший в углу крохотного кабинета, рядом с крохотной спальней, более похожей на щель, в которую была втиснута койка. Кабинет был чуть просторнее алькова. В нём помещались стол, узкий диванчик, кресло, сейф и холодильник. За дверью, в каморке по левому борту, ютился радист с аппаратурой, в такой же крохотуле по правому находился гирокомпас.
– Приказ я сейчас отстучу, – сказал кеп, протискиваясь за стол к пишущей машинке, – а ты, Гараев, отправляйся к боцману. Он укажет койку в кубрике, снабдит робой. Знакомься с новыми товарищами и приступай к исполнению – работы у нас невпроворот.
Вывалившись из капитанского будуара и оказавшись нос к носу со штурвалом и компáсом, я расшаркался перед ними и сотворил книксен. Я бы и сбацал на радостях что-нибудь эдакое, но, увы, не было у меня талантов школьных друзей моих Вовки Наточина и Жорки Родовского, которые били чечётку и цыганочку, могли сыграть что хошь на баяне и гармошке, взять гитару и спеть: «На нас девчата смотрят с интересом, мы из Адесы – моррряки!»
Давно прервалась связь с малой родиной. В последнем письме Наточин писал, что служил на тральщике в Порт-Артуре, где японцы понатыкали тьму мин, а теперь его, старшину первой статьи, переводят в Камчатскую флотилию; о Жорке он ничего не знает, а во Владике виделся с Юркой Хомулло, который служит в береговой обороне. И ещё напомнил, как мы пели втроём, собираясь удрать на Чёрное море: «В нашу гавань заходили корабли, большие корабли из океана. В таверне веселились моррряки и пили за здоровье капитана!» Интересно, что сказали бы мои школьные товарищи, узнав, что Мишка Гараев оказался матросом на паруснике, на трёхмачтовой баркентине «Меридиан»? Сбылась мечта идиота? Вряд ли. И дураком бы не обозвали, как Судьба. Ведь и они – по крайней мере, Вовка и Жорка – когда-то мечтали о том же.
Согрев ладонями влажные рукояти штурвала и вытерев капли влаги со стекла компáса, я сошёл с банкетки и отправился на поиски боцмана, намурлыкивая слова, с которыми, как думал, расстался на пороге юности: «Я вернусь, любимая, поздно или рано, и опять мы встретимся у старого каштана, ой ты, даль адеская, милая моя, завтра отплываем мы в далёкие края-яяя»…
Боцмана и матросов обнаружил на полубаке. Стояли, задрав лики к топу фок-мачты. Боцман что-то объяснял, тыча пальчиком туда и сюда. Речь шла о бегучем такелаже, который нужно отсоединить и сегодня же убрать в сарай на берегу. Я тоже задрал голову, прикидывая высоту мачт и оценивая свои возможности для первого раза: смогу ли, допустим, прямо сейчас подняться на самую верхотуру, где стеньга и реи казались такими тонкими и ненадёжными. Опыт верхолаза, полученный на «Грибоедове», конечно вспомнился мигом. Мы с Неудахиным красили… да, тоже фок-мачту, что торчала из надстройки. Там её палуба находилась достаточно близко от топа, но до воды было порядочно. Однако не помню, чтобы испытывал какие-то страхи, когда крутился вокруг неё с кандейкой на шее, одной рукой цепляясь за прутики скоб-трапа, а другой – сжимая кисть. Там вокруг была пустота, а здесь столько верёвок, столько всего наворочено – лианы! Здесь я буду чувствовать себя сразу и Гошкой и Яшкой, только без их хвостов.
Пока я предавался скоротечным воспоминаниям, боцман закончил объяснения и повернулся ко мне. Парни тоже уставились. Мы походили на собак, которые принюхиваются друг к другу, принимая в стаю новичка. Это не заняло много времени.
– Будем знакомы – Майгон Метерс, – представился дракон, когда я назвал себя.
По-русски он говорил очень чисто, с едва уловимым акцентом, свойственным прибалтам. Вовка Цуркан был явным молдаванином, Витька Москаленко – ростовским казаком, Володька Медведь, самый великовозрастный из всех, являл собой чистый образчик щирого хохла с хитрющими глазами пройдохи, а самый младший, Толька Вахтин, был типичным русаком с рязанской рожей. Впрочем, самым младшим оказался замызганный пацан с повязкой вахтенного, оставивший пост и явившийся послушать боцмана. Он тоже представился, но прежде, засмущавшись, вытер нос, потом отёр ладонь о штаны, а уж затем сунул свою грязную лопаточку и прошептал: «Сашка…»
Медведь сразу засуетился и принялся мне что-то объяснять, понёс какую-то ахинею про «те верёвочки, что тебе придётся как следует понюхать», но боцман оборвал болтуна и повёл меня в кубрик. Он находился под полубаком, вход в него – небольшой кап – располагался тут же, перед брашпилем, а крутой трап вёл в коридорчик, который заканчивался у трёх дверей: левая и правая вели в кубрики, та, что находилась посерёдке, была дверью форпика, парусной кладовой и кладовой для тросов, скоб, краски и всего прочего, что именуется «шкиперским имуществом».
Получив место под крышей, я получил и робу, что называется, первого срока, поэтому внешне очень даже отличался от своих собратьев. Впрочем, я уже понял, что скоро она оботрётся, обтреплется и не будет отличаться от нищенского наряда других.
Когда мы поднялись на палубу, все уже разбрелись. Медведь и Москаль возились у бизань-мачты, Цуркан копошился у грота, а Вахтин, оседлав бом-брам-рей, ковырял свайкой какую-то скобу. Мне, для начала, Метерс предложил заняться бушпритом, где нужно было отсоединить фалы, шкоты и ниралы кливеров и стакселя, а потом срезать и сами паруса. Этим я и занялся, затем поднялся на фока-рей – нижний из всех «брёвен», – а с Вахтиным встретился аж на верхнем марса-рее, где помог парню спустить на палубу гроздь деревянных блоков и стальных концов.
Собираясь подняться на мачту, видел, что боцман наблюдает за моими приготовлениями, и я, кажется, не дал маху. Свайку и молоток привязал к поясу куском шкимушгара, перчатки сунул в карман, мол, знаем технику безопасности! И только тогда впервые ступил на ванты: и-эх – боевое крещение!
Он утонул в морской пучине,Исчез моряк во тьме ночной.Настал рассвет, вокруг всё сине,А мир залился злой тоской.Я был доволен собой: ноги не дрожали, поджилки не тряслись. Майгон, радетель, опершись на брашпиль, смотрел, задрав голову. Я сделал ему ручкой и указал на салинг: можно туда? Он кивнул, и я полез в его, салинга, «собачью дыру», полез просто так, ибо Вахтин уже очистил от многочисленных концов фор-бом-брам-рей и брам-рей. Держась за стень-ванты («Нам сверху видно всё, ты так и знай!»), огляделся. Цуркан и Медведь командовали под мачтами, а лазали по ним Москаль и пацан Сашка – разделение труда! Уж не их ли имел в виду капитан, когда говорил, что «некоторые пасуют»? Я не спасовал и был горд собой, так как знал теперь, что высота мачт скоро станет привычной, и если сейчас я осторожничал, крепко хватаясь за стоячий такелаж, а прежде чем шагнуть на такой, кажется, ненадёжный и тонкий перт бом-брам-рея и повиснуть над пустотой, то это для первого раза было в порядке вещей: свыкнется – слюбится.
В общем, «первый день творения» я осилил без страха и упрёка, хотя было два-три момента, когда перехватывало горло от неприятного ощущения, что ещё миг – и мог бы сорваться с верхотуры. А рассказал о нём достаточно подробно лишь потому, что, видимо, и старпом подглядывал за новобранцем. Нет, я не видел его за этим занятием, но когда спустился с мачты, он, Юрий Иваныч Минин, был тут как тут. Похлопал меня по плечу и сказал: «С почином!» Еле удержался, чтобы не гаркнуть браво: «Рад стараться ваш-бродь!» Всё так. Но когда Вахтин, спросил, ухмыляясь, за ужином: «Ну, как тебе там, наверху? Очко, поди, не железное? Жим-жим, да?», – ответил честно:
– Там хорошо, Толя. Там просторно. Но врать не буду. Когда добрался до нока бом-брам-рея, то… В общем, сердце, как клубок: то – в жопу, то – в бок.
Жующие встретили моё признание дружным хохотом. Толька ржал громче всех. Занятный парень. Фигурой похож на Стасова партнёра по «железу» Петю Груцу, а личико – чистый Муссолини, правда, без воинственности дуче. Я же говорил – рязанская рожа. Губастая, щекастая, нос бульбой. От Муссолини – выпяченный подбородок.
– А вот для Фокича, – Москаленко ткнул ложкой в Цуркана, – подняться до салинга евойной грот-мачты – всё равно что впервые закрутить «мёртвую петлю» на каком-нибудь «фармане» или «ньюпоре».
На меня насмешники больше не обращали внимания, а я слушал и приглядывался к новым товарищам: застольный трёп давал полное представление о том, кто есть кто. Фокич, очевидно, привыкший к насмешкам такого рода, только кривил углы рта, а Медведь чуть не подавился куском, услышав от Вахтина то же самое в свой адрес.
– Ну, ты, салага! – окрысился он. – Ты ещё на горшке сидел, а я уже шкипером был на Чёрном море. У нас в Одессе-маме…
– …как и у нас в Ростове-папе, таких «шкиперов», как ты, на пушечный выстрел не подпускают даже к двухвёсельной гичке, – прервал его Москаленко, к которому не обращались по имени, предпочитая производное от фамилии – Москаль. – Поди утопил кучу народа на своей барже, вот и сбежал на Балтику, так?
– У-у, шакал ростовский! Шоферюга! – взвыл Медведь, но боцман остановил начавшуюся свару, хлопнув ложкой о стол: «Хватит!»
Ужин финишировал в молчании, а когда допили чай, Метерс предложил «на сладкое» перенести все снасти, что были свалены на палубе, в дощатый сарайчик. Он уже снабдил их бирками с названиями, чтобы не путаться по весне. Управились быстро. Всем хотелось поскорее разбежаться по домам, ибо, в чём я, к своему удивлению, убедился, наши мариманы оказались жителями Светлого. Рижанином был только боцман, но он как-никак принадлежал к комсоставу (который, оказывается, целиком проживал в столице советской Латвии), однако надеялся получить квартиру в Кёниге.
Фокич, оказавшийся ещё и кастеляном, повёл меня в каптёрку, сквозь которую проходило толстое основание фок-мачты. Он выдал простыни, наволочку и две утирки, а когда, спустя пятнадцать минут, появился на палубе, я его не узнал: оборванец превратился в денди! И лощёный пижон этот отправился в кабак с намерением подцепить «бабца». Следом, в такой же униформе и с той же целью, отчалил в город и кок Миша, дылда с ногами размера близкого к пятидесятому. Остальные ещё покопались, а когда наконец собрались, я решил присоединиться к ним.
– Тю! – воскликнул Москаль. – Выходит, ты тоже местный?
– Все великие мореплаватели и Герои Соцтруда, – важнецки изрёк Вахтин, – просто обязаны если не пожить в Светлом, то хотя бы разок побывать в нём. А ты, Миша, теперь я вспомнил, у Шкредова жил. Я-то над хлебным магазином обитаю, поблизости.
– Тесен мир для великих путешественников, – засмеялся я и спросил у одессита и ростовчанина, как они-то оказались в этом посёлке.
Медведь отмахнулся, а Москаль сказал, что служил в Балтийске, женился на местной да и остался при жене.
– А дед Мудищева, Порфирий, в полку, при Грозном… Никите службу нёс, он, поднимая дрыном гири, порой смешил его до слёз, – хихикнул Вахтин и получил по шее. – Чего дерёшься? Служил бы себе в Балтийске, драил бляху и горя бы не знал, зато внуки твои потом с гордостью б читали про деда в знаменитой поэме.
– Ты, Толька, кнехт. Тупой чугунный кнехт. И хватит! – прикрикнул Москаль, видя, что Вахтин готовит новую тираду.
За проходной Медведь отвалил в сторону, сказав, что идёт «покатать шарики».
– Тоже мне – бильярдист! – буркнул Москаль. – Кий держать не умеет, а туда же. Хитрован! – и, обращаясь ко мне, добавил: – Он тут прислонился к одной инженерше с завода и катается как сыр в масле. Живёт примаком, а сам на юбки заглядывается. И сейчас к какой-нибудь шалашовке побёг.
В этот вечер я узнал многое о своих сослуживцах – общительный народ! Да и сам рассказал кое-что о своей жизни в Светлом. Мелочи, конечно. О том, что иду навестить кота Велмоура, хозяин которого в отъезде, об оркестре Фреда тоже поведал и услышал от Вахтина, что оркестр развалился, когда его, уехавши на учёбу, покинул Вшивцев. Когда Толька добрался до хлебного магазина и поднялся к себе, я расстался и с Виктором, который жил за Домом культуры. Я же, описав небольшую дугу, свернул на Краснофлотскую, с неё – в свой переулок с тем же названием.
В окошке Пещеры Лейхтвейса горел свет, что меня озадачило: кто бы там мог быть при отсутствии хозяина? Не кот же, вернувшись с очередных амуров, готовит ужин?
Дверь в общую прихожую открыл своим ключом, а у комнаты появился замок. Новшество! Пришлось постучать. Открыла дама, гм… бальзаковского возраста.
– Вы к Феде? – спросила она. – Он в отъезде.
– Знаю. Но я, видите ли, прописан здесь и…
– Тогда вы – Михаил Гараев! – всплеснула она руками. – Брат предупреждал. Я живу в Черняховске, а здесь…
– …нянчитесь с котом? – предположил я. – У меня здесь кое-какие вещи, но я могу их и позже забрать.
– А сейчас вы где живёте? Ах, что же я, – конечно, на судне! А не могли бы здесь? До брата. Он вернётся через неделю, а у меня своих дел по горло. Да и домашние заждались. Поживёте? – Спросила с надеждой в голосе.
– Хорошо, – согласился я. – С завтрашнего дня беру шефство над котом. Мы с ним друзья. Судно моё стоит на здешнем судоремзаводе, да и что неделя – тьфу!
И обрадовалась же Лидия Петровна, тут же назвавшая себя и засуетившаяся, будто собиралась уехать сию же минуту. От чая я отказался и, получив ключ от комнаты, сразу и откланялся.
Завод уже спал, но не спал пацан Сашка, зыркал из камбузного иллюминатора. Я присел на планширь шлюпки, брошенной на причале, и закурил последнюю перед сном сигарету. Сашка покинул камбуз и поглядывал в мою сторону, не решаясь заговорить. Робкий. Наверное, недавний школяр.
– Тебе сколько лет? – спросил я.
– Семнадцать. Весной восемнадцать будет и – в армию.
– Ясно…
– А вы тоже в первый раз… на паруснике?
– Да, – признался я, – но с детства мечтал о таком чуде и теперь рад-радёшенек. Ты-то доволен службой?
– Ещё как! Я бы… я бы… Эх, и я бы с вами весной!
– В какие части собираются забрить?
– Сказали, на флот.
– Вернёшься и, как Москаль, придёшь на «Меридиан». Если не передумаешь к тому времени.
– Не передумаю! – заверил пацан и даже заёрзал на кофель-планке.
– Счастливой ночи и вахты, Сашок, – пожелал я и отправился в кубрик.
Всякий ветер морской, и всякий город, хотя бы самый континентальный, в часы ветра – приморский.
«Пахнет морем» нет, но: дует морем, запах мы прикладываем.
И пустынный – морской, и степной – морской. Ибо за каждой степью и за каждой пустыней – море, за-пустыня, за-степь. —
Ибо море здесь как единица меры (безмерности). Каждая уличка, где дует, портовая. Ветер море носит с собой, привносит.
Ветер без моря больше море, чем море без ветра.
Марина ЦветаеваНа берегу, под напором ветра, стонали сосны.
В такие часы озеро говорило со мной, как настоящая Балтика, голосом штормового восточного ветра, скрипом высоких стволов и шумом вершин, ветви которых сжимались и разжимались, словно пальцы.
Я представлял, как пенные валы с грохотом накатываются на берег, бурлят в камнях, а подруга вздыхала и поглядывала в окно, за которым, во саду ли, в огороде, раскачивались почти уже могучие лиственницы, тщетно пытаясь загородить собою ёлку и пихту, что вздрагивали и заламывали лапы, будто и вправду молили о защите.
Я извитое раковины телоБеру и ухом приникаю к устью,Чтоб вновь услышать, как она запела,В душе внезапно отозвавшись грустью.Шумит прибоя неустанный голос,Как будто что-то объяснить мне хочет,Как будто некто в этом чреве поломПоёт ли? Плачет? Или же хохочет?Я ж слышу рокот дальнего прибоя,Чего-то жду, и, может быть, надеюсь…А он гремит без пауз и без сбоев,И этот ритм моей душой владеет.Владеет, Профессор, владеет до сих пор. Для этого не надо приникать ухом к раковине, для этого достаточно шума сосен и ветра с востока, думаю я, шуруя в печи и вороша алую груду угольев, ещё лижущую кочергу язычками голубого пламени («Вебстер улыбнулся, глядя на камин с пылающими дровами. Пережиток пещерной эпохи, анахронизм… Практически никакой пользы, ведь атомное отопление лучше. Зато сколько удовольствия! Перед атомной печью не посидишь, не погрезишь, любуясь языками пламени». Как и перед батареей парового – или водяного? – отопления, хе-хе!..).
Давным-давно сказал поэт:Иных уж нет, а те – далече…И время бременем на плечиКладёт пласты прожитых лет.Уже ушли учителя.И вот – уже друзья уходят,Но также вертится земля,И неизменно всё в природе.«И неизменно всё в природе»… Извини, Профессор, за винегрет из твоих стихов, но я тут не причём, их перемешала своей кочергой нынешняя непогода, а если они легли на душу в таком порядке, то какая тебе разница? И потом, знаешь ли, мысленно обращаюсь я и к нему, и к подруге, твои сонеты и нынешний ветер – одно и то же, благо они напомнили зимние ночи в Отрадном, где я оказался однажды не для санаторного отдыха, а для пошлой халтуры, на которую меня сподобил кадровик Запрыбпромразведки, сведший меня для этого с господином (вернее, «товарищем» ещё, по тогдашнему времени) из курортного ведомства, имевшим занятную фамилию Бульонов.
…Работёнка была – не бей лежачего: плакаты по технике безопасности для котельной тамошнего санатория. Меня поселили в отдельном номере небольшого особнячка на берегу моря, и положили вдобавок бесплатный харч. Днём я занимался «живописью», вечером уединялся в своей «каюте» и часто, очень часто, засыпал только под утро, слушая всю ночь музыку шторма, которую исполняли те же инструменты – ветер, сосны и волны Балтики, кидавшиеся на заснеженный берег и покрывшие наледью чёрные камни соседнего мыса. Чего только я не передумал в те ночные часы! И я бы не назвал собрание тех мыслей так же, как назвал Профессор сборник своих стихов: «Жизнь прекрасна, вот и всё…» Повода не было для такого оптимизма. Всё складывалось не по щучьему веленью и тем более не по моему хотенью. Безысходность – вот точное определение тех чувств, которые владели мною тогда.
Тот же благодетель, что подкинул халтуру, сказал, что моя загранвиза повисла в воздухе. У парткомиссии возникли большие сомнения касательно моей кандидатуры. Якобы участковый Города и его околотка, в котором осталась моя семья, со слов досужих кумушек, перемывающих косточки соседей, сидя на скамейке у подъезда, сообщил, что Гараев слишком уж зашибал в последнее время, а это недопустимо для советского моряка-промысловика. Да, будущее было темно, и траурный говор ветра, моря и сосен только усиливал тьму, в которую я погружался каждую ночь.
Сейчас Мини-Балтика рождала лишь отголоски тех чувств и мыслей, но и они, смягчённо-вялые, не вязались с благостным рассуждением Джеймса Джойса, роман которого «Портрет художника в юности» я перечитывал в тот вечер: «Тихая текучая радость, подобно шуму набегающих волн, разлилась в его памяти, и он почувствовал в сердце тихий покой безмолвных блекнущих просторов неба над водной ширью, безмолвие океана и покой ласточек, летающих в сумерках над струящимися водами». Более соответствовали настроению его же слова, сказанные дальше: «Всё зыбко в этой помойной яме, которую мы называем миром».
Пессимизма моим отголоскам добавило и письмецо Бакалавра-и-Кавалера.
«Боцман! Выполняя Ваше повеление, – писал Б-и-К убористым почерком (какое ещё повеление, чёрт возьми?), имею честь доложить: поставщик инфарктов и инсультов для некоего Хемингуэя Ренановича – небезызвестный (есть ещё хорошее слово – «одиозный») В.Э. – тебе его знать необязательно – поначалу вызверился: «Я всё твоё перенёс дословно, и не морочь мне голову!» Покорный слуга Ваш (смиренно): «В.Э., дорогой мой, ужель я сплю? Ущипни меня! Вот текст. Там ни хрена нет, снято даже то, что было в двухколонном тексте!» В.Э., искоса глядя в текст романа, бледнеет: «Гадом буду – переносил! Как получилось?!» Бросается нажимать на кнопки одного компьютера, второго, третьего. Доказательств, что переносил, нет. Бледнеет ещё больше. С тоской смотрит, господин Боцман, на покорного слугу Вашего. Тот, жалея его, вздыхает: «Судьба-с! Ладно, давай без этих ключевых эпизодов. Только обязательно сделай сноску: «печатается с сокращениями». В.Э. (облегчённо): «Это всенепременно, это обязательно». С тем и ушёл я, понурый и несчастный, глотать очередной килограмм валидола… Вот и весь мой отчёт. Обнимаю. Эр.
P.S. Только подумать, что когда-то я научил этого мудака пить сырые яйца, упирая на то, что в жидком виде они – это цыплята табака. В них есть всё, что есть в цыплёнке: клюв, коготки, крылышки и ножки Буша, а главное, не надо обсасывать, обгладывать и пачкаться – разбил скорлупку, посолил, закрыл глаза, проглотил и – никаких забот. И чаевых не надо совать гарсону. Вот теперь всё. Вечно твой и по-прежнему понурый и несчастный, Бакалавр-и-Кавалер.
Р.P.S. Что остаётся несчастному? Изволь:
И где-нибудь в углу чулана, под замком,Годами пролежать бесформенным тюком.И видеть, как тебе всю душу исчернилиНалёты плесени и липковатой гнили.Вот теперь всё окончательно и бесповоротно. Эр.»
Если так обошлись с мэтром, то на какую долю обрекут меня, когда сунусь со своими «столбами» к тому же В.Э.?! И хотя я зашёл слишком далеко (уже наступила третья или четвёртая «болдинская осень»! ), стоит ли продолжать эту канитель?! Ведь неизвестно будет ли принята рукопись, а если и будет, то «одиозный» редактор даже не поинтересуется моим мнением, просто возьмёт и выбросит всё, что сочтёт нужным, и, быть может, даже не захочет встретиться и поговорить. И вполне возможно, что не получу распечаток текста для авторской корректуры. Ведь я червяк в сравненье с ним, с его сиятельством самим!
А Командор твердит: «Твори, выдумывай, пробуй!» Бакалавр уже не так настойчив – своих забот полон рот, но и он напоминает время от времени. Им, акулам пера, хорошо рассуждать, а тут хоть пропади от сомнений. Надо сделать передышку и всё хорошенько обдумать, благо на носу уборка урожая. Разделаюсь с огородом и сделаю резюме. К тому времени подруга снова отчалит к своим старичкам, а я… Я, как ни крути, видимо, потащу дальше свой воз со «столбами», водружу на черепушку монашеский клобук и «правдивые сказанья» начертаю.
Так всё и вышло.
Ветра перестали дуть, прекратились и начавшиеся дожди. С огородом разделались в одночасье с помощью городского десанта. Подруга тоже не задержалась. Собралась на железку вместе с детьми, сопроводив минуту расставанья просьбами и увещеваниями быть паинькой и не связываться с Дрискиным.
– Ты понимаешь меня? – спросила любезная, обняв любезного.
И я ответил, поникнув гордой головой:
– Я всё пойму и разумом объемлю, отброшу сны, увижу наяву, кто здесь топтал одну со мною землю, за ней в вечерний сумрак уплыву…