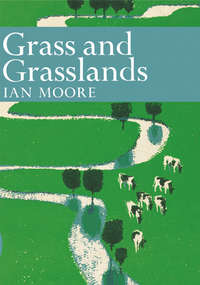Полная версия
Смерть и круассаны

Йен Мур
Смерть и круассаны
Original title:
DEATH & CROISSANTS
by Ian Moore
Все права защищены.
Никакая часть данной книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме без письменного разрешения владельцев авторских прав.
DEATH & CROISSANTS:
Copyright © 2021 Ian Moore
This edition is published by arrangement with Greyhound Literary Agents and The Van Lear Agency LLC
© Издание на русском языке, перевод, оформление. ООО «Манн, Иванов и Фербер», 2023
* * *
Глава первая
Есть ли в мире что-то более безрадостное, чем мюсли?
И дело вовсе не в том, что Ричард Эйнсворт страдал от плохого настроения, просто утро всегда было для него сложным временем. Хотя слово «тяжелое» здесь больше подошло бы. Утро было тяжелым временем, которое нужно было как-то вытерпеть, в ожидании прихода чуть менее тяжелых дня и вечера. Утро походило на полную холодной мутноватой жижи зону для мытья ног, которую ты вынужден пройти, прежде чем окажешься в относительно теплой и чистой воде общественного бассейна. Он смиренно вздохнул. Для него вовсе не было тайной, что у многих людей те же проблемы с утром, но эти многие не держали гостиницу с завтраками. К тому же в таком месте, как одна из пасторальных долин Луары, где все мало-мальски важное происходит исключительно по утрам.
Завтрак и в самые лучшие дни не был простым делом; обычно Ричард изо всех сил старался удержаться на тонкой грани между обязанностью как хозяина удовлетворить нужды постояльцев и желанием дать тем возможность насладиться, если это слово здесь уместно, своей утренней трапезой в полном покое. Тут весь фокус состоял в том, чтобы принять вид доступный, но незаинтересованный, внимательный, но отстраненный, чтобы тебя нельзя было винить в равнодушии к нуждам постояльцев, с одной стороны, но – с другой – они бы не торопились обращаться к тебе с просьбами. Во всем этом намного меньше от ненавязчивого сервиса, нежели от защитного механизма, и, как правило, он просто избегал зрительного контакта и старался незаметно слиться с обстановкой.
На самом деле он ни разу не пробовал мюсли. Они всегда напоминали ему о бабушкином попугайчике Винсе, названном в честь певца Винса Хилла, которого бабуля обожала, несмотря на то что кроме нее о нем никто и не слышал, вероятно, даже миссис Хилл. Винс – попугай, не певец – обитал в маленькой клетке, нависающей над правой частью битого жизнью коричневого велюрового дивана – в семидесятые все было коричневым – с прекрасным видом на телевизор. Бабуля неизменно занимала левую часть дивана, и громадная ротмановская сигарета с пугающе длинным столбиком пепла в ее костлявых, похожих на палочки пальцах то и дело сновала от узких, накрашенных ярко-розовой помадой губ к мощной стеклянной пепельнице. Но речь, вообще-то, о дне клетки Винса, усыпанном погрызенными семечками, отвергнутыми зернышками и пшеном. Вот что напоминали ему мюсли – отвергнутый попугаем корм.
Это воспоминание, будучи одновременно тонким уколом в адрес современного мира – никогда не наскучивающее занятие, – немного приободрило его. Мысль о том, что типичный, помешанный на успехе и здоровом образе жизни представитель двадцать первого века начинает свой день не с так называемой суперъеды, а с отходов из птичьей клетки семидесятых годов, вполне вероятно, обладала потенциалом помочь ему продержаться весь завтрак. Видит бог, он в этом очень нуждался. Часы показывали всего лишь 8:45, а силы его были на исходе. На самом деле в голову пришла мысль, снова погружая в теплые воспоминания детства, он ощущал некоторую схожесть с тем самым бабулиным диваном. Старый, видавший виды, изрядно пообтершийся, испытавший вкупе с легким похмельем кое-что из того, что, по его мнению, не многим диванам доводилось.
Нынче утром он явно перестарался в стремлении слиться с обстановкой, и вместо эффекта отстраненности его весьма продолжительное разглядывание банки с мюсли привело к нервному – из разряда: а все ли с ним в порядке? – вниманию со стороны итальянцев-молодоженов в углу. По крайней мере, он полагал, что это молодожены. На его желчный взгляд, их постоянная потребность прилюдно выражать свои пылкие чувства указывала на то, что эти отношения на данный момент продолжались весьма недолго. Они всё еще находились в волнующей, полной взаимного интереса и влечения стадии любви. Новизна чувств еще не испарилась. Что ж, тем лучше для них, признал он – почему бы и нет? – и решил изобразить страшную занятость, отойдя от банки с мюсли к старомодной съемочной камере, служившей лампой у подножия лестницы. Она была одной из декоративных отсылок к его прошлому в качестве киноисторика наряду с настенными часами в виде сигнальной хлопушки. Он шел так, словно его ждало неотложное дело, что в каком-то смысле так и было: Ричард Эйнсворт любил, чтобы все было на своих местах, и камера, пусть даже с выключенной лампой, должна была смотреть на лестницу, словно в ожидании эффектного появления кинодивы.
– Мсье!
Это подал голос молодой муж, поднявший руку в жесте, знакомом любому ребенку в школе и любому взрослому в ресторанах по всему миру.
– Мсье, не могли бы вы подогреть мне молоко, пожалуйста?
Французский у него был так себе, отчего Ричард ощутил небольшой всплеск уверенности. Сам он по-французски говорил весьма неплохо, пусть и недостаточно свободно, что означало жизнь в постоянном страхе достигнуть языкового предела и оказаться раскрытым, как Гордон Джексон в «Большом побеге»[1], попавшийся на приманку «удачи». Страх этот был непроходящим.
– Конечно, синьор Риззоли… – Он взял чашку синьора Риззоли. – А синьоре?
– Si, э-э-э, s’il vous plait, – мгновенно исправилась она и адресовала милую улыбку сначала Ричарду, а затем сразу же мужу, находя рукой его руку на маленьком угловом столике. «Молодожены слишком уж стараются», – подумал Ричард.
– Что-нибудь запланировали на сегодня? – громко и четко спросил он, отходя. Синьор Риззоли в явном затруднении промямлил что-то в ответ, но, прежде чем Ричард успел любезно повторить вопрос по-английски, его идеальный перевод донесся с лестницы.
– Hai qualche piano per oggi?
Риззоли застыли, в потрясенном молчании наблюдая, как Валери д’Орсе элегантно плывет вниз по лестнице. Ее осанка была безупречной, так же как и висящая на сгибе локтя сумочка от «Луи Виттон», откуда выглядывала крошечная ухоженная чихуахуа. Валери д’Орсе воцарилась в зале, как Клеопатра – в Египте; достигнув подножия лестницы, она пренебрежительным жестом отвела объектив камеры в сторону, словно избавляясь от назойливого папарацци. «Какой выход», – подумал Ричард, до этого видевший ее только мельком, поздним вечером, когда она въезжала. Прибыла Норма Десмонд, и на этот раз обмельчали именно фильмы[2].
В летнем костюме цвета сливок, с огромными солнцезащитными очками, поднятыми на лоб, она одарила зал неопределенно-вежливым bonjour, прежде чем разместить свою собачку на кресле и, успокоив ту несколькими ласковыми словами, устроиться напротив. И снова в памяти Ричарда всплыли бабушка и ее Винс, хотя вся эта картина была из совершенно другой жизни, нежели «Пеббл Милл в час пополудни»[3], сигареты «ротман» и диваны, знававшие лучшие времена. Собака перевела взгляд с хозяйки на Ричарда, который стоял столбом, слегка ошеломленный грандиозным появлением, а затем на чету Риззоли, не донесшую до ртов ложек с хлопьями. Из-за стола выглядывала лишь голова псины, чей украшенный камнями ошейник, словно диско-шар, пускал по потолку цветные блики. Казалось, она чего-то ждет; как, впрочем, и все остальные.
– С вами все в порядке, мсье?
Как и большинство француженок средних лет или, вероятнее, любых женщин средних лет, а возможно, просто всех француженок, Валери д’Орсе интересовалась здоровьем человека тоном, в котором участие мешалось с долей пренебрежения, как у полицейского при допросе слабоумного свидетеля. Она смотрела прямо на него тяжелым, пронизывающим взглядом, наверняка повергнувшим к ее ногам немало мужчин.
Прибыв вчера поздним вечером, она сыпала сожалениями из-за того, что заставила его ждать, и жалобами на пробки при выезде из Парижа. Было темно, и он к тому времени успел слегка выпить, поэтому просто показал ей номер и ушел. И даже не заметил, что она с собакой, что, по правде сказать, являлось нарушением правил гостиницы. Пусть даже псинка оказалась не больше Винса-попугайчика, но правила есть правила, а правило «без животных» четко прописывалось на всех веб-сайтах. Тут требуется деликатный подход, решил он, поглядывая на постоялицу, пока подогревал молоко для четы Риззоли.
Она олицетворяла собой классическую элегантность в типично французском стиле: волосы, подстриженные в короткий боб, выкрашены в темно-каштановый, под цвет глаз, теплых и в то же время отстраненных, пронизывающих острым взглядом. В уголках ее глаз скопились морщинки, указывающие на готовность посмеяться и веселый нрав, но темный омут радужки не располагал к глупостям. Они мало что пропускали, предположил Ричард, ощутив некую неловкость. Он не считал себя тщеславным; его радовало то, что он выглядит на свои годы и, как он убеждал себя, вполне неплохо смотрится среди мужчин одного с ним возраста. В волосах вполне уместно проглядывала седина, пусть даже виски чуть поредели, словно отлив открыл побережье. Едва наметившееся брюшко можно было легко, по крайней мере пока, убрать, втянув в себя воздух и выпрямившись. Да, есть и похуже него, причем немало, заключил он так, словно оценивал самого себя перед продажей. Что, впрочем, ему, весьма вероятно, и предстояло скоро сделать. Возможно. В данный момент собственный семейный статус казался ему довольно неясным. На прошлой неделе дочь сказала ему, что «в терминах социальных сетей, пап, у вас с мамой все сложно», так, будто это было вполне удовлетворительным объяснением, а не замаскированной дверцей в ловушку неопределенности. Как бы то ни было, в глубине души он смирился с мыслью о возвращении в стан холостяков в обозримом будущем и, случись так на самом деле, в свои пятьдесят три был к этому готов. Пусть он уже и не мог похвастаться внешностью главного героя, но вот на персонажа с приятным характером вполне тянул.
– Мадам д’Орсе, – произнес он с самым французским своим акцентом, выпрямившись во весь рост и слегка втянув живот, – боюсь, нам необходимо поговорить о вашей собаке.
– Паспарту?
– Да, м-м-м, Паспарту.
Паспарту, надо отдать ему должное, одарил Ричарда взглядом из разряда «зря тратишь время, приятель».
– О, не беспокойтесь о Паспарту. – Она грациозно махнула рукой. – Достаточно миски воды.
Ее ответ прозвучал на английском с долей пренебрежения, напомнив о высокомерных парижских официантах и принеся раздражение и облегчение в равных долях. Но сопровождался он дружеским пожатием плеч, а тон в единственной фразе проделал путь от насмешницы до роковой женщины и обратно. Ричард еще немного втянул живот, что не осталось незамеченным.
– А вот я, напротив, хотела бы еще немного теплого молока в мой горячий шоколад. И, возможно, круассан.
– Да, сей…
Паспарту улегся в своей переноске, настраиваясь на долгий сон.
– И, пожалуйста, зовите меня Валери, Ричард. Я планирую задержаться здесь как минимум на несколько дней, и, думаю, нам ни к чему все эти формальности. Терпеть не могу церемоний. – Эти слова она адресовала чете Риззоли, которые, казалось, вцепились друг в друга еще крепче.
Ричард открыл было рот для ответа, но понял, что не знает, с чего начать, что сказать в середине и как вообще должен звучать конец. Его затуманенный винными парами разум пытался оценить ситуацию; да, она привлекательна, да, впервые за практически вечность привлекательная женщина назвала его по имени, а не «мсье» или «эй», однако меньше чем за минуту его легко и ненавязчиво заставили отступить от собственного свода правил.
– Так, теперь, значит, эти чертовы собаки? Господи Иисусе! – раздался свистящий шепот с лестницы, где на том же самом месте, что и Валери недавно, стояла мадам Таблье. Ее крахмально-белый, девственно-чистый фартук резко контрастировал с грязными словами, швабра с ведром несколько терялись в крепкой хватке ее крупных, как у мужчины, рук, к поясу был прицеплен громоздкий старомодный, годов 80-х, кассетник «уокман»[4] с оранжевыми поролоновыми наушниками, висящими на шее. Можно было с легкостью расслышать, как Джонни Холлидей[5] хрипло тянет очередную рок-балладу.
– Будто бы тут и без того работы не до черта, – пробурчала она достаточно громко, чтобы быть услышанной, несмотря на песнопения Джонни. – Взять хотя бы этих людей, что расшвыривают свое дерьмо повсюду. А теперь еще и собаки, да? – Она с трудом преодолела последние ступеньки лестницы и обратилась к замершей комнате. – Можно подумать, мне мало того, что приходится оттирать кровавые пятна с мокрых стен.
Глава вторая
– Да, понимаю, но, думаю, тут… ну, тут же не так много крови, правда? – неубедительно начал Ричард и обернулся, чтобы увидеть Валери и мадам Таблье, стоящих за его спиной в дверях одной из спален верхнего этажа.
Две эти женщины были максимально разными, отличающимися друг от друга всем, от внешности до образа жизни, и потому вряд ли их могло объединить хоть что-нибудь, кроме стопроцентно надуманного реалити-шоу. В данный момент тем не менее на их лицах застыло одинаковое выражение, делавшее их похожими на сестер. Выражение, в котором сомнение граничило с недоверием, подкрепленным вопросом «Тут ведь речь не о количестве крови, так?» в глазах.
С фактической точки зрения Ричард был в чем-то прав. Крови действительно было немного. Однако справа от выключателя перед ванной комнатой номера имелся очень четкий темно-красный след ладони, похожий на детский рисунок. Отпечатки пальцев были вытянуты, хоть и чуть смазаны на концах, а центр – очень четкий, до такой степени, что можно было различить линии и казалось, будто ладонь издевательски машет им со стены. Ричард сделал шаг назад, не отрывая глаз от пятна и чуть склонив голову набок, словно художественный критик, сомневающийся в знании современных трендов.
Затем издал тяжелый вздох, который должен был прозвучать пренебрежительно, даже насмешливо, словно все, безусловно, под контролем, но походил, скорее, на сдавленный всхлип. «Обычное» – таково было его определение нынешнего утра до сих пор.
– Мне это не нравится, – буркнула мадам Таблье и, чтобы подчеркнуть свое недовольство, яростно погрозила гадкому пятну шваброй.
Ричард «унаследовал» мадам Таблье, когда он и его жена Клер приобрели это дело пару лет назад. Она постоянно балансировала на грани приличий, немилосердно ругалась при постояльцах, которых в массе своей считала ненужным, зараженным микробами, пачкающим все вокруг злом. На первый взгляд казалось, она так ненавидит этот мир, что девиз «Смерть милосердная, приди за мной скорее» нужно было вышить на ее фартуке, украшенном словами Je place le bonheur au-dessous de tout, что в общих чертах переводилось как «Я ставлю счастье превыше всего прочего» и определенно купленном шутки ради. «Я отставила счастье вместе со всем прочим в сторону» – было бы намного ближе к правде. Но Ричарду она напоминала неукротимую Айрин Хэндл[6], а за это он был готов простить практически все. К тому же как можно не нанять помощницей по хозяйству женщину с фамилией Таблье? «Таблье» по-французски означало «фартук», и этот своеобразный номинативный детерминизм поддерживал Ричарда во время ссор. Она застыла, готовая к бою, вздернув швабру, вероятно на случай самообороны, если бы вдруг кровавый отпечаток спрыгнул со стены и приложился к ее тылам.
– Это довольно интересно, вы не считаете? – Валери д’Орсе заняла более спокойную и взвешенную позицию. Прочие посмотрели на нее с недоумением. – Нет, правда, – продолжила Валери, самым непринужденным образом проигнорировав их откровенный скептицизм: – Взгляните. – И она подняла свою ладонь, сравнивая ее с пятном.
– Не трогайте его! – прошипела мадам Таблье. – Это улика!
– Я и не собираюсь его трогать! – отбрила Валери тем же свистящим шепотом, не опуская руки.
– Да уж, будьте любезны, не трогайте, – последовал слегка желчный ответ.
– Глядите. – Ладонь Валери нависла над красным отпечатком на стене. – Видите?
– Теперь нет. Ваша рука все закрыла к чертям.
– Мадам Таблье, я пытаюсь показать вам размер руки…
– А какое это имеет значение?
Ричард, накопивший за свою жизнь достаточно опыта, прекрасно знал, когда лучше не вмешиваться. Чуть ранее на неделе он наткнулся на двух своих куриц, Лану Тернер[7] и Джоан Кроуфорд[8], сцепившихся за дохлую мышь, и тогда пришел к такому же выводу, как и сейчас: оставь их в покое – и пусть природа возьмет свое. К тому же споры на французском, а по правде сказать, и любое выражение взрывных эмоций казались ему неимоверно сложными с точки зрения языка, требующими огромных усилий. Валери опустила ладонь, уперлась руками в бока и многозначительно обернулась к мадам Таблье.
– Я пытаюсь показать вам кое-что. Так что опустите свою швабру и дайте мне объяснить.
Никогда прежде он не видел, чтобы кому-нибудь удавалось одержать верх над мадам Таблье, хотя следовало признать, что он не видел даже, чтобы кто-нибудь пытался. Но, может, что-то мелькнуло во взгляде Валери – с того места, где стоял Ричард, было незаметно, – а может, дело было в едва заметном изменении тона, однако старшая женщина моргнула первой и опустила швабру. Когда вопросы субординации разрешились, Валери продолжила, подняв правую руку с идеальным маникюром снова.
– В этой комнате останавливался мужчина, так?
– Да. – Ричард слегка опешил, оказавшись внезапно вовлеченным в беседу. – Мсье Граншо. Он уже останавливался у нас прежде.
– Маленького роста?
– Да, полагаю, так.
– Что ж, не сомневаюсь. – Она настойчиво продолжила. – Я не слишком крупная женщина, но наши руки почти одного размера.
Ричард не был уверен, есть ли тут связь с чем-либо, но Валери считала это важным, а он не собирался возражать. Мадам Таблье тем не менее проявила еще меньше уверенности и, наконец-то отставив швабру в сторону, подняла к отпечатку собственную руку: для сравнения. Рука Валери рядом с ее походила на руку ребенка.
– Мой почивший супруг, упокой Господь его душу, бывало, говорил, что такими руками я могла бы удавить целую лошадь словно курицу.
С учетом всех обстоятельств это были очень странные слова, и Ричард с Валери решили, что лучше всего их просто проигнорировать. Пусть даже ни один, ни вторая не смогли отвести глаз от мясистой, похожей на окорок конечности пожилой женщины.
– Ну, в дверь он стучал, да, – произнес Ричард. Он пытался припомнить еще что-нибудь, но старик был не особо запоминающимся, да и сам Ричард, кстати, нечасто утруждал себя болтовней с гостями. – Нет, не высокий, точно. Трудно сказать, честно говоря, он был довольно, э-э-э… – он судорожно пытался подобрать французское слово, – сутулый, – добавил он по-английски извиняющимся тоном.
– Сутулый? – Казалось, Валери сердится, причем скорее на себя, за то, что не знает этого слова, чем на готового удариться в панику Ричарда.
– Да, ох, что же это за слово? – Он почесал затылок. – Эрм… – Он вдруг ощутил невероятное напряжение и даже нагнулся вперед, пытаясь проиллюстрировать позу. – Courbe! – триумфально заявил он в пол, а затем выпрямился, щелкнул пальцами и указал с видом победителя на Валери. – Courbe![9] – повторил он с облегчением. – Мсье Граншо был courbe.
– Ладно. – Мадам Таблье была само высокомерие. – Это мы поняли.
– Этот отпечаток о многом нам говорит, я считаю. – Валери снова взяла контроль над ситуацией в свои руки, достав откуда-то карандаш и принявшись указывать им на стену. – Здесь масса информации.
– Dio mio![10] – Возглас раздался у двери, в которой замер синьор Риззоли, ныне судорожно крестившийся.
– Это всего лишь детский рисунок, синьор, – выпалила Валери по-итальянски практически молниеносно, но молодой итальянец не выглядел убежденным.
– Могу я помочь вам, синьор? – громко спросил Ричард по-английски.
– Piu caffe, per favore, piu caffe[11], – ответил тот, не отрывая взгляда от отпечатка.
– Мадам Таблье, вы не могли бы обслужить этого джентльмена, пожалуйста?
– О, так вот, значит, как, да? Я отправлюсь выполнять всю грязную работу, пока вы двое тут секретничаете. Ха! Я должна была сразу это понять. – Она промаршировала мимо синьора Риззоли и, топая, ринулась вниз по лестнице.
– И вот они, мои баллы на «ТрипЭдвайзере»[12], – мрачно пробормотал Ричард, когда встревоженный итальянец отправился вслед за ней.
– Что?
– Ничего. Что вы имели в виду под «информацией»? Информацией о чем?
– О том, кто такой этот джентльмен, – сказала Валери так, словно это было самой очевидной вещью в мире. – Взгляните. – Она снова подняла карандаш. – Вот линия жизни, а вот линия поменьше, параллельная ей, видите? – Ричард кивнул. – Основная линия жизни прямая, она указывает на силу и энергичность, а меньшая линия это подтверждает. Похоже, ваш мсье Граншо весьма устойчив к болезням. А вот у основания линии жизни, здесь, раздвоение. Это указывает на одиночку, оторванного от семьи. Он всегда был один, вы сказали? – Ричард уже перестал следить за карандашом Валери и теперь разглядывал собственные ладони. Как ни прискорбно, но и у него было раздвоение. – Линия ума здесь длинная и прямая, значит, он преданный человек, но и упрямый тоже. – И снова Ричард посмотрел на собственную ладонь, где линия ума была едва заметна. – Однако это интересно: здесь либо нет четкой линии сердца, либо она слилась с линией ума. Это хорошо для мужчины, означает силу, успех.
– А для женщины?
– Для женщины? Не так хорошо. Разрушительно, вредоносно. Вот здесь должна быть линия брака. Но ее нет. И снова: он целеустремленный человек, не заботящийся ни о браке, ни о противоположном поле – лишь о самом себе.
– Так он не был женат? – предположил Ричард.
– Нет, если, конечно, не был слишком юн, чтобы эта линия успела сформироваться. Но мы-то знаем, что это не так.
– У меня тоже нет линии брака, – печально признался Ричард; утро становилось по-настоящему отвратительным. – Только морщины. – Валери строго взглянула сначала на него, а затем на его ладонь.
– Нет, – возразила она, – у вас много линий брака, глядите: как минимум три.
– Три брака!
– Необязательно. Это может означать много браков, один брак и пару любовных историй или даже то, что у вас есть одна настоящая любовь и она в три раза сильнее того, что может испытывать один человек.
Ричард с отвращением сжал ладонь.
– Все это чертовски расплывчато, если хотите знать мое мнение!
– О да, – легкомысленно подтвердила Валери, – настоящее мумбо-юмбо. – Ему понравилось, как она произнесла «мумбо-юмбо». – Но некоторые люди верят в подобное, отчего оно становится интересным.
На верхней ступеньке лестницы с шумом возникла мадам Таблье.
– От всего этого итальянцы дали деру, – заявила она, едва отдышавшись. – Ну? Тело уже нашли?
– Тело?
Ричард встревоженно огляделся вокруг; подобная мысль, как ни странно, ему и в голову не приходила. Хотя спрятать тело здесь не представлялось возможным. Шкафа не было, только деревянная вешалка-перекладина. Кровать застелена, словно на ней и не спали, и под ней тоже определенно ничего не было. В углу стоял расписной сундук, как обычно, раскрытый, с высыпавшейся наружу лавандой. Багаж отсутствовал. На самом деле, не считая кровавого отпечатка, комната была абсолютно готова к приему нового постояльца.
– Все это очень хорошо, – заявила мадам Таблье, – но чем дольше кровь остается на стене, тем сложнее ее будет оттереть. Раз тела нет, так, может, все это лишь недоразумение, а этот тип просто смылся, не заплатив.
– Возможно и такое: порезался во время бритья. – Валери выглядела смущенной.
– У него густая борода, – заметил Ричард, заходя в ванную. – Тут дело не в бритье. – Он принялся открывать и закрывать шкафчики под раковиной, проверяя, есть ли здесь хоть какие-нибудь следы жильца.
– Может, носом кровь пошла? – предположила мадам Таблье. – У моего покойного супруга, упокой Господь его душу, как-то кровь из носа шла с такой силой, что ванная походила на бойню.
– Он был гемофиликом?[13] – Валери вздохнула; в ее голосе слышались отстраненность, даже разочарование, что такое перспективное приключение так банально закончилось.