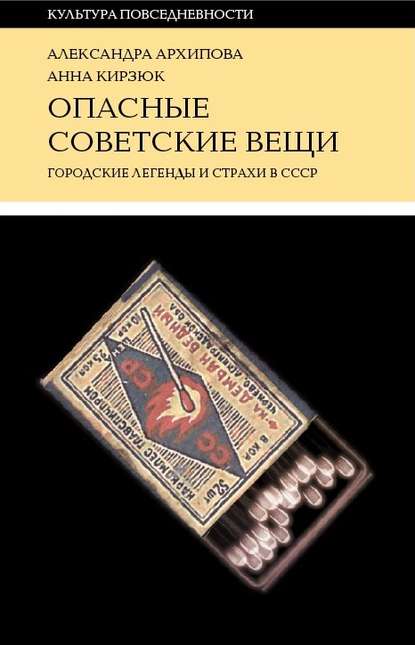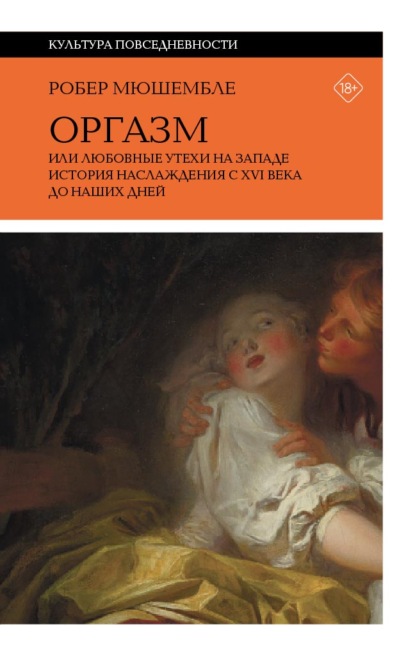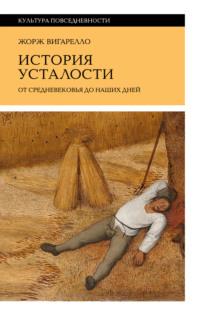Полная версия
История привлекательности. История телесной красоты от Ренессанса до наших дней
Журнал «Галантный Меркурий» отдает предпочтение лицу, «поскольку чары его сильней»314. Хотя ответ на этот вопрос остался традиционным, принцип сравнения частей тела между собой существенным образом изменился: лицу отдается предпочтение не потому, что оно ближе к небу и ангелам, а потому, что в нем выражается душа, духовный и внутренний мир человека. Подтверждение тому можно найти у Сен-Симона: в его текстах лицо характеризуется, в зависимости от случая, как «приветливое», «дерзкое», «очаровательное», «решительное», «величественное», «интересное», «открытое», «выразительное», «необычное», «трогательное»315. Итак, теперь считается, что на лице отражаются не звезды, но движения души: именно на нем проявляется действие внутренних сил. Ранее тело представлялось подвластным воздействию мистических сил, теперь видится покорным рассудку. Вот как Мадлен де Скюдери описывает внешность своей героини Клелии: «Взглянув на нее, замечаешь: разум подчинил себе все страсти»316. Мадемуазель де Монпансье характеризует свою героиню следующим образом: только «замечательная душа» могла «наделять жизнью столь прекрасное тело»317. Если в XVI веке описывались преимущественно внешние признаки физической привлекательности, то в XVII веке отчетливо звучит новый мотив «оживления», характеризующий воздействие души на тело.
В трактатах о красоте XVII века появились новые предметы для рассуждений. Антуан Бодо де Сомез в своем сочинении «Как быть всегда красивой» 1666 года выделяет два типа красоты: «бездушную» и «одухотворенную». Первая ограничивается только внешними признаками, тогда как вторая отличается «очарованием» и «пылом»318: дополнительные свойства – выразительность и силу – ей сообщает именно душа. «Внутреннее сияние» красоты в XVII веке понимается и описывается иначе: если прежде его связывали с магической способностью тела излучать свет, то теперь ставят в один ряд с такими личностными характеристиками, как «утонченность» и «остроумие». Например, мадам де Монгла описывалась в «Любовной истории галлов» следующим образом: «ум ее отличался особой живостью и очаровывал собеседников – порой сверх меры – точно так же, как и цвет ее лица»319. В то же время «величественная и неповторимая красота Клермоны», описанная Эспри Флешье в 1666 году во время «Великих дней в Оверни»320, лишена столь ценного дополнения: «Ей недоставало какой-то особой привлекательности, происходящей только от ума. В ослепительном блеске ее великолепия отсутствовал огонь, она принадлежала к тем красавицам, в которых есть нежность, но мало жизни»321.
Выделились новые типы красоты, разнящиеся в зависимости от тончайших особенностей характера: «покоряющая», «волнующая», «серьезная», «весенняя», «одухотворяющая», «зарождающаяся», «пленительная», «жизнерадостная»322, – таковы ярчайшие типы красоты XVII века, как утверждает Сен-Габриель, составитель обширной галереи портретов своего времени. Разумеется, эти эпитеты описывают только внешние признаки, поскольку представление о психологическом пространстве с его механикой и логикой еще не сформировалось. Сен-Габриель несомненно вовлечен в литературную игру, как и Мишель де Пюр323, в 1656 году выделивший новые типы красоты: «строгая», «обыденная», «меняющаяся», «горделивая» или «вселяющая надежду»324 – уже в другой галерее, написанной в духе прециозной эстетики. Эти прилагательные выбраны случайно и вовсе не отражают те или иные особенности душевного мира человека. Тонкие различия между ними – не что иное, как литературный прием, а детали подбираются интуитивно. Но их появление важно потому, что указывает на новые принципы эстетизации внешнего облика. Мораль перестала считаться единственно возможным критерием оценки прекрасного; устарела классификация Габриеля де Миню XVI века, выделявшего три типа красивых женщин: «соблазнительницы», «жеманницы» и «святые»325. В XVII веке осваивается новое телесное пространство – глубинное, интимное: внутренние, личностные свойства, которые проявляются во внешнем облике и неотделимы от понятия «истинной» красоты.
Глава 2
ДУША И ТЕЛО
Внимание к «характерам», их разнообразию способствовало переосмыслению понятия гармонии в телесной эстетике XVII века. Под гармонией стали понимать согласованность «видимого» и «скрытого от глаз», соответствие между «кажущимся» и «желаемым». В середине века Ларошфуко обращает особое внимание на внутреннее содержание поз и движений: «Мы тем приятнее окружающим, чем согласнее наш вид и тон, манеры и чувства с нашим обликом и положением в обществе, и тем неприятнее, чем большее между ними несоответствие»326.
В XVII веке о душе начинают все больше говорить, впервые признают ее главным «кормчим»327, что порождает интерес к экспрессии, внешним проявлениям внутреннего содержания. Черты лица приобрели особую глубину, в их эстетике появляются отсутствовавшие прежде категории: эмоциональность и страстность.
От божественного света к гармонии
В XVII веке постепенно складывается новое представление о физическом облике человека: внешность формируется «разумом», а не «высшими силами», в ней выражаются пламенные порывы души, а не лучезарное сияние звезд328.
Однако неожиданно открывшееся внутреннее содержание привлекательности по-прежнему с трудом поддается пониманию и описанию. На смену устаревшему пониманию красоты как излучаемого телом божественного света пришли определения, приближенные к человеческой природе, которые, впрочем, не отличаются большей ясностью, чем существовавшие ранее: например, красота – это «таинственная связь черт между собой»329 или «согласие внутреннего с внешним»330. Для определения физической привлекательности часто используют выражение «не знаю что» (je ne sais quoi), обозначающее то таинственное «очарование, без которого даже идеальные формы не будут считаться красивыми и притягивать взор»331. Эта неопределенная формулировка становится расхожей: «в блеске ее глаз есть что-то332 необъяснимое»333, «нечто занятное в рассуждениях»334, «какая-то особая грациозность»335 или «трудно уловимое изящество ее талии»336. Языковые особенности этих высказываний характерны для мистерии: референцией, пусть совершенно «приземленной», в этих конкретных примерах служит религия с ее таинствами. Здесь, как предположил Жан-Луи Жам, мы имеем дело с «важным сдвигом в понимании действительности»337: за этим «не знаю что» стоит не смирение от одного взгляда на божественное великолепие, но удивление той необычайной красоте, которой может обладать человек.
Повышение значимости экспрессии повлияло на всю эстетику XVII века. В правилах этикета выражению чувств уделяется особенное внимание: отныне каждому предписывается «владеть собой». Важная роль отводится экспрессии в театральном искусстве: героям пьес надлежит «восторгаться, удивляться и ликовать»338. В живописи позы и жесты персонажей полотен должны подчиняться определенной логике, быть согласованными между собой, как на восхищавших Андре Фелибьена картинах Пуссена: «Все здесь естественно, легко, просто, приятно; каждый персонаж занят своим делом, их позы изящны и благопристойны… Художнику удалось запечатлеть все движения души»339. Создается впечатление, будто каждый жест проникнут стремлением соответствовать своему внутреннему содержанию; это соответствие достигает порой такой силы, что вызывает «счастье, которое ощущается на мышечном уровне и мгновенно сообщается тому, кто смотрит на творения Пуссена»340 (слова Марка Фюмароли).
Стоит вчитаться в высказывание Андре Фелибьена. Нетрудно заметить, что понятие гармонии трактуется здесь по-новому (как соответствие между внутренним и внешним) и дополняется новыми смыслами. Оно не только не сводится к контролю разума над чувствами, но включает в себя страсти и аффекты – весь спектр человеческих чувств, проявление которых долгое время считалось предосудительным (или же их существование отрицалось вовсе). По мере того как внутренний мир изучается и развивается, он заполняется страстями. Считалось, что некоторые страсти могут «служить украшением человеку так же, как тени способны придать картине глубину»341. Особый интерес вызывают «страстные» лица: их красота кажется более волнующей, пронзительной. Корнель и Расин в своих сочинениях превозносят героические, прекрасные страсти: «Восхищались ли мы когда-нибудь магией страстей больше, чем в тот век христианского абсолютизма»?342 Франсуа Сено и Рене Декарт выдвигают идею о «пользе»343 страстей. Влечение «впервые приравнивают к независимому, фундаментальному и автономному психологическому содержанию»344. Впервые влечение стало обозначать красоту.
От блеска глаз к глубине взгляда
Совокупность этих изменений нашла символическое выражение в описании глаз в текстах 1650–1660‐х годов. Теперь объектом изучения становятся не испускаемые глазами стрелы, но производимое взглядом впечатление: проекция сменяется рецепцией. К тому же в начале XVII века обновляются теоретические положения физики: глаз больше не уподобляют испускающему лучи светильнику, поскольку считается, что глаза не излучают свет, но поглощают его или отражают345: отныне во взгляде ищут проявление определенных чувств или состояний человека. Античная модель глаза опровергается: «Орган зрения происходит из воды, а неотъемлемое свойство воды – поглощение»346. Впрочем, устаревшие аналогии заменяются новыми заблуждениями: волчьи или кошачьи глаза «светятся не потому, что в них пылает огонь», но потому что «их оболочка» подобна зеркалу, «такая же ровная и гладкая»347; василиск или «цветущая»348 женщина способны отравить не взглядом, но телом, поскольку их кожа источает «ядовитые испарения»349; Тиберий «наводил страх на воинов, не испуская лучи из глаз, но устремив на них грозный и свирепый взор»350. Взгляд наделяется новыми характеристиками, его глубина представляется иначе: как дверь во внутренний мир человека.
Нельзя сказать, что блеск глаз перестал упоминаться вовсе, но описание их привлекательности пополнилось новой отсылкой – к способности отражать душу: «Какими бы выразительными ни казались глаза, все, что есть в них прекрасного, заимствовано у души, посылаемые ими сигналы очаровывают только тогда, когда передают сообщенную им душой прелесть, тайные чувства»351. Считается, что трудноуловимые внутренние движения352 могут проявляться даже в цвете глаз: в особенности в самых «нежных», самых прекрасных оттенках «млеющей под ресницами синевы»353. От красоты XVI века красота классическая отличается тем, что связывает очарование глаз с их способностью передавать чувства.
Противники мадам де Монтеспан, несмотря на сдержанность в оценках ее внешности, связывают необычайную привлекательность глаз знаменитой фаворитки именно с такой способностью: «Талия ее не отличалась ни стройностью, ни изяществом, однако лицо сияло необыкновенной свежестью, а взгляд свидетельствовал о недюжинном уме»354. Характеристики взгляда множатся, дополняются нюансами: теперь глаза обладают не только глубиной и цветом, но и способностью посылать сигналы, выражать чувства, эмоции или физическое состояние. Глаза все чаще служат внешним проявлением внутреннего мира: так, в глазах королевы, по словам мадам де Мотвиль, «благообразно сочетаются мягкость и строгость»355, глаза мадам де Нуво источают «негу»356, а взгляд одной из героинь Сен-Реаля полон «тайной страсти и истомы»357. К этой новой содержательности взгляда прибавляются вариации тона, изменчивость, мимолетность того, что проявляется в глазах: подвижность и разнообразие душевной жизни. Например, глаза Клелии, «самые красивые на свете… черные, сияющие, нежные, страстные, умные; в их сиянии есть нечто невыразимое. То меланхоличная нежность наполняет их своей прелестью, то в них проглядывает игривость, и светящаяся в них радость придает им всю свою привлекательность»358; или глаза графини де Грамон «большие и оживленные, способные передавать каждое ее желание»359. Взгляд наполняется жизнью, страстью, он может помутнеть, что вносит множество новых нюансов в понятие красоты.
Художники XVII века обыгрывают в своем творчестве эти едва уловимые проявления сокровенных чувств, используя прозрачность и движение. В качестве примера можно назвать мимолетный взгляд блестящих глаз «Женщины в красной шляпе» кисти Вермеера360, притягательность этого взгляда связана с тем, что его направление не совпадает с поворотом головы; или смеющиеся глаза женщин на портретах Франса Халса, словно снятые на пленку удачно подловившим момент фотографом, или тщательно выписанные складки вокруг затененных глаз «Саскии» на портрете 1633 года361 кисти Рембрандта.
К тому же в XVII веке интерес к экспрессии служит стимулом для исследования взгляда362. Так, лекции Шарля Лебрена, прочитанные в Академии живописи и скульптуры в 1678 году, свидетельствуют о его чрезвычайной заинтересованности взглядом. По мнению Первого королевского живописца, выражаемые глазами чувства угадываются в поведении взгляда на картине: «отвратительные и порочные» страсти вынуждают глаза персонажей блуждать и прятаться, избегать света и клониться к земле, великие и благородные страсти устремляют взгляд вверх к свету, а умеренные страсти задают взгляду горизонтальное направление. Исследование претендует на научность, поскольку имеет под собой «глубинную» основу: форма глаза, его углы и треугольники, скопированы с античных бюстов, принятых за образец. Подход к изучению предмета претендует также на верифицируемость: «Если от одного уголка глаза провести линию к другому, то она будет горизонтальной только у тех людей, кто сумел обуздать свои страсти»363. «Великие» страсти непременно скажутся на внешности: «возвышая дух»364, они «естественным образом сольются с движениями души»365. Они облагораживают человека, затрагивая в нем «возвышенные чувства», придают его облику великолепие, а красоте – глубину. Королевский живописец с помощью формул, найденных в расчетах, наделял красотой своих героев: тщательно выверял изгиб бровей, прорабатывал складки вокруг глаз и следил, чтобы глаза находились на горизонтальной линии, высчитывал угол их наклона на лице, изображенном в профиль. Впервые «знание о строении глаз и их расположении помогает понять устройство внутреннего мира»366. Впервые это знание связывается с понятием красоты и помогает его прояснить.
Шарм актрисы
Спрос на страсти, как и совершенствование в искусстве их выражения, в полной мере реализуется в актерской игре. Дневник Сэмюэля Пипса служит великолепной иллюстрацией этой культуры: превращая город в спектакль, встречаясь с актрисами, он подчиняет свою жизнь театру до такой степени, что даже чувствует себя виноватым и заблудшим. Пипс признается, что театральные спектакли доставляют ему эстетическое удовольствие на физическом уровне. Например, 28 октября 1661 года становится для него настоящим сюрпризом: «Незнакомая мне женщина играла Партению, а после вышла на сцену в мужском костюме; никогда прежде я не видел столь прекрасных ног; я был ими очарован»367. Переодевание женщины в мужское платье важно уже потому, что позволяло рассмотреть ноги, однако прежде всего этот феномен свидетельствует о том, что в середине XVII века актриса получает социальное признание, заменив собой напудренного героя старинного фарса. Мимика и жесты актрисы XVII века, ставшие более искусными, стилистически восходят к персонажу комедии дель арте Панталоне. Ее триумф – триумф классического театра, постепенно вырабатывающего свои правила. Рассуждения об игре актрисы не обходятся без упоминания красоты: роль Меланхолии исполняло «милейшее создание на свете»368, Фиалка «дивно сложена»369, Виноградинка «высокая, ладная, исполненная естественной прелести»370. Сцена обязывала быть красивой. Людовик XIV, к примеру, высказывал недовольство тем, что роль Николь в «Мещанине во дворянстве», игравшемся в Шамборе в сентябре 1670 года, исполняла мадемуазель де Боваль, поскольку королю «категорически не нравились ее лицо и голос»371. В то же время другая актриса, супруга Мольера Арманда Бежар, выступала законодательницей мод: «В наше время женские манто не плиссируют, позволяя им свободно ниспадать по телу, что подчеркивает изящество талии; авторство этого нововведения принадлежит мадемуазель Мольер»372.
Разумеется, репутация актрисы не была реабилитирована в полной мере: к представительницам этой профессии по-прежнему относятся с недоверием, подозревают в «легком» поведении и отсутствии моральных устоев. Сценическую игру считают родной сестрой фальши, а комедию – непригодным для серьезных тем жанром. Вместе с тем как в придворном, так и в городском обществе, где переосмысляется роль внешности и заботы о ней, возрастает престиж театра. Распространенное в XVII веке увлечение «театральными пьесами»373 развивается параллельно с масштабной театрализацией социума: самым показательным примером «игры», вышедшей за пределы сцены, является королевский двор. Искусство игры на публику получает общественное признание, благодаря чему уточняются эстетические критерии374 и возрастает значимость экспрессии.
Именно экспрессию имеет в виду мадам де Севинье, когда пишет об актрисе Мари Демаре, соблазнившей ее сына. Девушку преображала сцена: «При ближайшем рассмотрении Мари уродлива, и я не удивлена, что мой сын не мог находиться с ней рядом, но когда она читает стихи, то буквально хорошеет на глазах»375. Мари, заверяет маркиза, меняет само понятие красоты. Каждое ее движение наполнено смыслом. Ее игра не может оставить зрителя равнодушным, ее украшает то, что она делает: «Она – невероятное создание, вы ничего подобного в своей жизни не видели. Зрители идут на комедиантку: комедия их не интересует; я смотрела „Ариану“ только из‐за нее»376. Мари Демаре-Шанмеле, дружившая с Расином377 и герцогом Орлеанским, была наделена особой силой, способной «скрыть все ее недостатки»378, – эта сила заключалась исключительно в манере выражать себя: родилось искусство, помогающее оценить красоту и прояснить ее смысл. Отныне экспрессия – неотъемлемая часть эстетики.

Мари Демаре Шанмеле, по анонимному портрету, выставленному в 1878 году в Трокадеро, опубликованному Эмилем Масом (La Champmeslé, Paris, Alcan, 1932)
Единая модель красоты?
Несмотря на повышенное внимание к экспрессии, уверенность в существовании идеала красоты не ослабевает: изменились только представления о нем, что не могло не сказаться на практиках украшения тела.
Классическая рациональность не возносит взор к небу в поисках совершенства, как это делали неоплатоники в XVI веке379, отныне для определения принципов прекрасного обращаются не к миру идей, а к материальной реальности. Классицисты изучают факты, выводят законы, создают модель прекрасного на основе представлений о физическом устройстве материального мира, пусть для Декарта и других мыслителей того времени гарантом осязаемого мира выступает Бог. Иными словами, универсальность прекрасного объясняется «его связью с объективной реальностью, постигаемой разумом»380. С этой точки зрения нахождение лучшей и единственной модели красоты – это исправление ошибок, стремление проникнуть в суть вещей и сделать так, чтобы «истина, лжи победительница, всюду себя являла и сердца покоряла»381. Такая красота лишена ореола загадочности и таинственности382, которым наделял ее XVI век; представление о ней становится отчетливее, хотя попытки определить ее по-прежнему наталкиваются на упомянутое выше «не знаю что» (je ne sais quoi): элемент интриги и волшебства в прозрачной и покоренной природе383.
Поэтому утверждается принцип действия: не созерцать, но преображать, – такова важнейшая особенность сознания, характерного для Нового времени. Отсюда эта тяга к вычислениям и расчетам, доказывающим мощь разума. Отсюда стремление подчинить материальный мир открытым с помощью разума законам эстетики: Никола Буало «рифму покоряет разумом»384, Андре Ленотр применяет законы симметрии в планировке садов и парков на французский манер385. Таким же образом поступают с физической красотой, ее изучают с помощью разума и воссоздают, исходя из понятия о разумном: формируют новую линию силуэта; парики и прически подбирают, учитывая индивидуальные особенности лица; без корсета теперь не обойтись, поскольку только он позволяет придать геометрически правильную форму плечам и корпусу, в позах, во внешнем виде и в нарядах стремятся соблюдать законы симметрии. В XVII веке считается, что абсолютная красота даруется не Богом, а доводится до совершенства: будучи «самой сущностью природы»386, этот абсолют создается по заранее продуманному плану с помощью многочисленных «исправлений». Такое отношение к прекрасному позволяет свободнее, чем раньше, использовать различные искусственные способы совершенствования красоты. Впрочем, «естественная» красота, не нуждающаяся в «косметике», по-прежнему ценится высоко. Сент-Эвремон, например, выражает свое восхищение мадам д’Олон, «красота которой не обязана своим совершенством ни чужим умениям, ни ее собственным ухищрениям»387. И все же отношение к искусственной красоте изменилось, ярким примером тому служит пассаж из «Порядочной женщины» (1646) отца Дю Боска: «Украшательства и наряды, на которые тратятся время и силы, достойны порицания в том случае, когда в них нет умеренности и когда они служат дурным намерениям. Но если таковые злоупотребления не имеют места, от украшения лица вреда не больше, чем от оправления драгоценных камней или полировки мрамора. Отчего запрещать человеку прихорашиваться – в рамках приличия, разумеется, – если не возбраняется украшать предметы?»388 Теперь совершенствовать формы тела можно на законных основаниях, но появляется новая задача: красоте, несмотря на ее безраздельное подчинение разуму, требуется чувственное наполнение. В XVII веке страсти, которые по-прежнему необходимо подавлять, все же становятся важным источником прекрасного и даже, с определенной точки зрения, «зерном добродетели»389.
Глава 3
ОТ ОЧИЩЕНИЯ К УТЯЖКЕ
Победа разума над формами остается главным предметом размышлений. Систематическое упоминание в текстах одухотворяющей тело души и самого тела как механизма, которым, как считается, человек научился лучше управлять, стимулирует развитие приемов совершенствования красоты. К тому же такое беспрецедентное для общества Нового времени390 внимание к себе вкупе с окончательным утверждением королевского двора в качестве модели для подражания стимулирует развитие практик по уходу за собой в еще большей степени: к внешнему виду предъявляются более жесткие требования, отныне необходимо не только следить за мельчайшими деталями облика, но и определить его назначение.
Влияние гуморов
В XVII веке состав средств по уходу за кожей и телом изменился незначительно. Эликсиры для очищения гуморов производят теми же способами и из тех же компонентов, что и в XVI веке: эфирные настойки, кристальная вода, дистиллированная вода призваны создать ощущение чистоты. Чтобы вода приобрела лечебный эффект, ее следовало обработать смесью ароматических веществ и прокипятить в дистилляторе. Неравномерность цвета лица в подавляющем большинстве случаев по-прежнему связывают с действием внутренних жидкостей организма. Книга «Зерцало красоты» Луи Гийона, вышедшая в свет в 1612 году и выдержавшая множество переизданий в XVII веке, по большей части повторяет работу Жана Лиебо, опубликованную в 1587 году: проблемы кожи лица, а также составы мазей описаны сходным образом. Существовавшие издревле способы очищения организма остались неизменными: считается, что с их помощью можно улучшить цвет лица, об этом пишет Локателли, в 1664 году путешествовавший от Роны до Сены и наблюдавший за француженками: «Они рождаются с белоснежной кожей и сохраняют ее в первозданном виде благодаря тому, что вместо вина пьют много молока, применяют кровопускания, клистиры и прочие методики, действующие на них чудесным образом: их щеки пурпурны, как розы, а грудь белее лилии»391.
Мнения путешественников о народных средствах, разумеется, не всегда совпадают. Так, Бракенхоффер в своих записях от 1644 года, сообщает: в Блуа девушек «обучают изящным манерам, чтобы они знали, как сохранить свежесть рук и лица»392. В то же время Жан-Жак Бушар считает, что живущие в низовьях Луары женщины «смуглы и уродливы»393, а Леон Годфруа потешается над обитателями Арманьяка, поскольку те «чрезмерно загорелы, чтобы не сказать черны, как ночь»394. На цвет лица смотрят в первую очередь: «он лишает красоты смуглых жительниц Монпелье»395 и вредит внешности лионских женщин, страдающих к тому же от выпадения зубов и волос, «напасти, приключающейся с ними из‐за тумана, что подолгу стоит над городом»396. Многочисленные упоминания в текстах воздействия окружающей среды на внешность указывают на то, что тело воспринимается как часть природы.
В XVII веке практики по уходу за телом интенсивно развиваются: их чаще упоминают в текстах, их описания детализируются. В Новое время люди становятся требовательнее к себе. Сначала промывание кишечника, «придающее лицу свежий»397 и цветущий вид, получает новое название, наилучшим образом отражающее специфику метода, – «чудодейственное лекарство». Затем очистительные процедуры приобретают неслыханную популярность: лекари с сомнительной репутацией, торговцы и капуцины производят специальные «минеральные» воды, хвалы которым расточает в 1693 году журнал «Галантный Меркурий»: регулярные промывания кишечника действуют эффективно и мягко, и вот «нас уже не удержать в кровати, мы с легкостью беремся за новые дела»398. Если раньше организм очищали в определенное время года, то теперь «легкие чистки» устраивают регулярно. Клизмы часто упоминают в мемуарах и рассказах, а основатель и редактор «Галантного Меркурия» Донно де Визе в 1665 году посвящает клистиру целую новеллу «Благородный аптекарь», в одном из скабрезных эпизодов которой герой, незаметно подменив горничную, помогает промыть кишечник своей возлюбленной Аменте, большой охотнице до этой процедуры, «которая сохраняет очарование ее прекрасного лица»399. Даже в бедных слоях общества распространились эти новые лечебные практики: регулярные, «легкие» очищения, омолаживающие гуморы и освежающие цвет лица. Филибер Гибер в своем «Милосердном лекаре» (1661) настоятельно рекомендует «приятный и простой способ мягкого очищения: употреблять в пищу садовые плоды, травы, корни, виноград, вина, мясо и бульоны»400. Итак, сама идея очищения организма не претерпела изменений, однако она становится доминирующей в повседневной практике ухода за телом, а основной ее целью является сохранение красивого цвета лица.