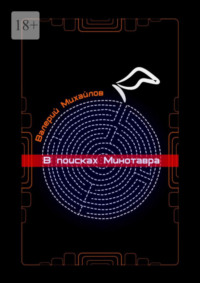Полная версия
Комедианты
– Неужели вы думаете, что я могу знать что-либо о таком человеке, как Цветиков, и оставаться в живых?
– Что ж, Дюльсендорф. Придется разговаривать в другом месте.
Они надели мне мешок на голову, вывели из дома, посадили в машину. Когда с меня его сняли, мои ноги подкосились от страха. Меня привезли в одну из бывших лабораторий Цветикова. Это не предвещало ничего хорошего. Меня бросили в комнату, полностью обитую поролоном. Вы должны были видеть такие в кино. Так обычно показывают палаты для буйных душевнобольных. Меня закрыли там и выключили свет.
Когда ко мне пришел Каменев (прошла целая вечность), я был на грани нервного срыва.
– Здравствуйте, господин Дюльсендорф. Как спалось на новом месте? Сон загадывали?
– Где моя жена? – спросил его я.
– О, за нее не волнуйтесь. Она в полном порядке.
– Я хочу ее видеть.
– Нет ничего проще. Помогите мне найти Цветикова, и мы отвезем вас обратно домой.
– Я не знаю, где он.
– Вы не знаете… я вам верю. Вы действительно не знаете наверняка, где он, но вы можете знать, где он может быть, его привычки, интересы. Вы могли совершенно случайно узнать о нем нечто важное, некую зацепку. Пожалуйста, вспомните, помогите нам…
– Я ничего не знаю.
– Я совершенно не вижу у вас желания с нами сотрудничать.
– Поймите, я с радостью бы вам помог, но я не знаю, где он. Мы не виделись несколько лет.
– Я вам верю, господин Дюльсендорф, верю всему, кроме слов «с радостью». Но я прошу вас помочь нам. Напрячь память, воображение, интеллект. Вы же умный человек, Дюльсендорф.
– Но я действительно ничего не знаю.
– Послушайте, Дюльсендорф… Я попытаюсь догадаться… Я, кажется, понял, вам недостаточно того, что я вас прошу об одолжении. Но, может быть, другая просьба заставит вас быть более сговорчивым. Я попрошу вас пройти со мной.
Меня привели в одно из рабочих помещений лаборатории и усадили в особое кресло – детище профессора Цветикова. Это кресло позволяло фиксировать пациента, полностью лишая его возможности двигаться.
– Может, вы избавите нас от всего этого? А, Дюльсендорф? – спросил меня Каменев.
– Я уже сказал вам, что ничего не знаю.
– Ну что ж, Дюльсендорф, это ваш выбор. Генрих.
Генрих принялся, не торопясь, фиксировать меня в кресле.
– Ганс, – сказал Каменев, когда я был прочно прикручен к креслу.
Я приготовился к боли, но они придумали для меня нечто более изощренное, чем физическая боль. Ганс вышел из комнаты. Буквально через минуту он вернулся с сыном моего хорошего друга. Его рот был заклеен скотчем.
– Итак, господин Дюльсендорф, надеюсь, просьба этого человека значит для вас несколько больше, чем моя. Не заставляйте его умалять вас проявить благоразумие.
– Но я действительно ничего не знаю.
– Хорошо. Ганс, Генрих. Прошу вас, джентльмены.
Они медленно, нарочито медленно связали ему ноги, перекинули веревку через блок, прикрепленный к потолку. Они подвесили его за ноги метра на полтора над полом.
– Одно ваше слово, Дюльсендорф, и все тут же закончится.
– Я ничего не знаю.
– Джентльмены.
Ганс и Генрих взяли по бейсбольной бите и принялись медленно избивать ни в чем не повинного парня. Они били его медленно, нанося не более двух-трех ударов в минуту, ломали ему ребра, руки, ноги… Я что-то кричал, молил о пощаде, рыдал, угрожал, умалял вновь. Я был на грани сумасшествия…
Они кинули труп парня в мою комнату. На этот раз они оставили включенным свет.
– Ну, как ваши дела, Дюльсендорф? – спросил меня Каменев тоном доброго доктора во время следующего своего визита. – О, нельзя же так. На вас лица нет. Сегодня вы плохо выглядите, мой друг. Бессонница? Я понимаю, вы, наверно, пытались вспомнить, ведь правда? Надеюсь, вы мне скажете, шепнете на ушко одно или несколько слов. И мы расстанемся, так сказать, друзьями, хотя нет. Я бы не хотел быть вашим другом после того, как вы мне продемонстрировали вчера свое отношение к друзьям. А вот я готов пойти вам навстречу. Вчера вы сказали, что хотите встретиться с женой, и вот сейчас вы ее увидите. Вы не хотите в благодарность мне что-то сказать? Нет? Вы неблагодарный человек, Дюльсендорф. Пойдемте.
Меня привели в ту же комнату, что и вчера, усадили на стул, зафиксировали. Затем Ганс привел жену.
– Ну что, Дюльсендорф, ваше слово.
– Я вам сказал.
– Что ж, вы сами во всем виноваты.
В комнату вошли какие-то грязные отвратительные бродяги и принялись насиловать мою беременную жену у меня на глазах.
– Дочь! У него есть дочь! – закричал я.
– Где? Говорите, Дюльсендор.
– Остановите их, я все скажу!
Ганс и Генрих оттащили бродяг от жены, а я рассказал им, где живет его девочка. Я понимал, что они с ней сделают. Фактически я выносил ей смертный приговор, но я не мог… был не в состоянии смотреть, как…
– Вот видите, Дюльсендорф, при желании вы оказали нам очень большую услугу, и мы отпустим вас и вашу жену. Хотя нет, она перенесла невыносимые страдания, к тому же наверняка ребенок уже не будет здоровым. Или будет? Ганс?
– Не знаю. Я думаю, лучше проверить, – совершенно буднично ответил он.
– Ну так проверьте.
Ганс ударил ее ножом в живот. Она медленно опускалась вниз, а нож продолжал резать ее тело. Она рухнула на пол, но перед этим… из нее выпало все… и… клянусь богом… я видел… это невозможно, но я видел… я видел, как на пол упал наш не родившийся ребенок…»
Глава 8
Я никогда не был слишком впечатлительным, но рассказ Дюльсендорфа подействовал на меня так, словно все это произошло не с ним, а со мной. Я был убит, уничтожен, размазан, как кусок масла по булке. Это было словно в кошмарном сне. Конечно, если верить Светлане, которой, кстати, совсем не было смысла меня обманывать, это и был сон, самый настоящий сон объевшегося на ночь Города. Бред, Тарковщина или «Пикник на обочине» со своим сталкером в мини-юбке. Или, что уже более правдоподобно, алкогольный делирий во всей своей красе. Я вдруг ощутил себя героем фильма ужасов, пытающегося при помощи своего жалкого умишки втиснуть необъяснимое в рамки патентованного здравого смысла. С одной стороны, это было весьма забавно, с другой… Подобные скептики обычно погибали в первую очередь, и это совсем не внушало мне оптимистичного взгляда на жизнь. Шестое чувство уверенно твердило мне, что это далеко не плод подогретого лошадиной дозой (лошади столько не пьют) алкоголя воображения, а самая что ни на есть не прикрытая ничем реальность. В такую реальность я меньше всего хотел верить. Хотя, с другой стороны, не так важно, в какую реальность веришь ты, намного важнее, какая реальность верит в тебя.
Рассудок напрочь отказывался принимать то, что говорил странный человек с экзотической фамилией Дюльсендорф. Его рассказ был невероятным, невозможным, неправдоподобным, в конце концов, но у меня в ушах все еще стоял его крик, обрушивший на меня безграничность человеческого горя. Он рассказывал совершенно спокойно, я бы даже сказал, безучастно, как на его глазах погибали любимая жена и не родившийся ребенок. Он говорил, словно речь шла о погоде на завтра или иных совершенно несущественных мелочах. Он закончил рассказ, сделал большой глоток прямо из бутылки и зарыдал или зарычал, я даже не знаю, как назвать его полный отчаянья вопль. Он рыдал без слез, он кричал, закрыв руками лицо, ничего не видя и не слыша. Для него ничего больше не было во всем мире, кроме горя, вечного, бесконечного горя, над которым…
– Помоги. Не сиди как пень, – вывела меня из ступора Света.
– Что?
– Давай его переложим на диван. Ты в состоянии?
– У меня весь хмель прошел.
– Вот и хорошо. Бери его… Не урони только.
Ее предупреждение было более чем уместным. Дюльсендорф, несмотря на свою тщедушную внешность, оказался достаточно тяжелым. Его тело было жилистым, мускулистым и совсем не дряблым. Мне бы такое тело. Он был словно боец ушу или ниндзя, «переодетый» в старика. Так в старых китайских фильмах про единоборства молодых актеров гримировали под стариков. Будь я в другом состоянии или расположении духа, меня наверняка бы насторожило подобное несоответствие формы и содержания, но тогда я хотел как можно быстрее убраться из этого чертового тупика. В общем, думать я начал только после того, как свершилось непоправимое, и мне пришлось, что называется, в принудительном порядке срочно анализировать ситуацию. Тогда же я только матерился и тащил тяжелое тело молодого старика на диван, который был, слава богу, в двух шагах от стола.
– Давай быстрее, – поторопил я Светлану.
Меня терзал страх вперемешку с тем отвращением, которое возникает у людей при виде змей или некоторых насекомых. Я боялся Дюльсендорфа, как прокаженного или больного чумой. Едва я выбрался из вагончика, меня вырвало прямо на ступеньки.
– Зашибись, – услышал я почему-то далекий голос Светы, – Карл будет доволен.
– Да пошла ты со своим Карлом!
– Пошли уже.
Она взяла меня за руку чуть повыше локтя и потащила за собой. Как маленького.
Дома я первым делом скинул с себя всю одежду и отправил в корзину для грязного белья, словно боялся, что на ней остались испарения или, лучше сказать, миазмы Дюльсендорфа со всей его отвратительной реальностью, способные проникнуть каким-то образом в меня и отравить мою и без того не очень счастливую жизнь, и принял душ. Никогда еще я не мылся с таким остервенением. Если бы было можно, я бы, наверно, содрал с себя всю кожу, вырвал бы желудок и легкие, чтобы только окончательно избавиться от всего, что хоть как-то соприкасалось с Дюльсендорфом. Я извел на себя целый кусок мыла, стараясь смыть малейшие воспоминания. Я вернулся домой из чумного района и теперь проходил санобработку.
Супруга моя была на очередном семинаре, и это меня радовало. Не надо было придумывать объяснения своему поведению. Правду я ей все равно не смог бы сказать. Во-первых, она бы не поверила. Слишком уж взрослый и здравый у нее рассудок. Во-вторых… Во-вторых, вполне достаточно и во-первых.
Надо было исчезнуть, спрятаться, скрыться от всех и вся. Я никого не хотел видеть, а уж тем более Светлану или Дюльсендорфа. Я был настолько возбужден, что до самого утра ходил по квартире из комнаты в комнату, оставляя какое-то время мокрые следы. Я даже не подумал о том, чтобы одеться или вытереться. Утром я позвонил на работу, сказал, что заболел (нет, ничего серьезного, возможно, грипп), затем переключил телефон на автоответчик, принял сразу две таблетки феназепама и забрался с головой под одеяло.
Я провалялся в постели больше суток, но чувствовал себя полностью разбитым. Тело болело и совсем не хотело двигаться, как обычно, когда слишком долго валяешься в постели. Крепкий кофе, душ… к зарядке тело отнеслось с нескрываемой враждебностью, и, махнув пару раз руками, я решил заменить ее прогулкой. Почему бы не посидеть на лавочке в парке со стаканчиком мороженого? Весна, птички, девочки… банально, но мило.
– Игорь! Привет!
Дима собственной персоной. Как обычно немного пьяный и слегка неряшливый. Мы не виделись… Сколько же мы не виделись? С тех пор, как он вообразил себя гением литературы, Дима редко показывался на людях, предпочитая сидеть дома за машинкой образца тридцатых или сороковых годов. Машинку он нашел на чердаке у деда, экспроприировавшего ее в одном из немецких штабов во время войны. Принес он ее с войны в качестве контрибуции и положил на чердак. Дима привел все в порядок, почистил, смазал, кое-что заменил, и стала машинка вполне сносно печатать. Писать он начал еще в школе и начал, как это водится, со стихов. Вполне, кстати, приличные были стихи. А буквально с год назад переключился вдруг на прозу. После нескольких неудачных рассказов (Дима их порвал, так и не дав никому прочесть), позволивших ему набить немного руку, он переключился на роман о себе, отвлекаясь иногда на небольшие рассказы. Рассказы он писал разные, от экстремально—бредовых до романтических, в духе Куприна, частенько очень даже приличных. Телевизор он не смотрел, только видак, радио не слушал, газет не читал. При этом он всегда был в курсе и всегда оказывался в нужных местах.
– Пойдем куда-нибудь посидим? – предложил он.
– Мне лучше лишний раз не светиться, – признался я.
– Теряешься?
Я кивнул.
– От кого?
– Да есть тут…
– Обещал жениться?
Я скривился.
– Должен денег?
Я скривился еще сильней.
– Не знаешь, как от нее отвязаться?
– Я вообще ничего не знаю.
– Ну, это излечимо. Берем пиво, и ко мне.
– Тапочки? Хотя можешь не разуваться. Я еще не убирал.
Дима жил в однокомнатной квартире «хрущевского» типа. Он убрал все перегородки, оставив разве что стены ванной и туалета (совмещенных). Кухня отделялась от жилой части квартиры исключительно цветом отделки. Такими вещами как уборка или приготовление пищи он занимался исключительно по вдохновению. Он мог не браться за веник неделями, что не мешало ему принимать гостей, среди которых нередко попадались и весьма симпатичные девочки.
– Садись на диван. Сейчас все приготовлю.
Дима брезгливо сложил грязную посуду в и без того полную мойку, смахнул крошки прямо на пол, протер стол отбивающей своим видом аппетит тряпкой. Немного подумав, он помыл стаканы.
– Курить будешь? – Он кинул на стол пакет анаши и пачку папирос.
– Меня и без этого глючит.
– Жизнь кипит?
– Кипит, чтоб ее.
– Рассказывай.
– Чего рассказывать: жена ушла, любовница тоже. Познакомился с бабой…
– А ты уверен, что тебе это не приснилось? – спросил он, когда я пересказал ему историю Дюльсендорфа.
– Иди ты…
– Подожди. Это, конечно, мистично, увлекательно, стильно, но ты бы поверил, если бы тебе кто-нибудь рассказал что-нибудь похожее?
– Наверно, нет. Зря я тебе рассказал, проехали.
– Подожди. Давай плясать от фактов.
– Какие тебе еще факты?
– Хреново тебе. Это факт? Факт. Далее… ну, с женой все понятно, тебя это не беспокоит. Любовница, говоришь, так толком ничего и не смогла тебе объяснить, ну да тоже бывает, потом эта у Вовика, и сразу к своему Будапешту…
– Дюльсендорфу.
– Один хрен. Послушай, а что тебе здесь не нравится? Ну, напились где-то у черта на рогах, ну, услышал сентиментальный бред старого мудака. Ну и что?
– Не знаю. Это как боязнь тараканов. Глупо и в то же время ничего с собой не можешь сделать.
– Жрать будешь? – спросил вдруг Дима.
– Нет.
– А я пожру. Мне после пива всегда есть хочется.
– У тебя ж наверняка ни хрена нет.
– У меня есть макароны и тяй.
– Тяй с макаронами?
– Ты предлагаешь есть его без макарон?
– Не знаю, тяй с макаронами…
– Ты буржуазен, и это когда-нибудь тебя погубит. Сходи лучше еще за пивом.
В ларьке юная особа увлеченно читала «Мастера и Маргариту». «Какие продвинутые у нас продавцы», – подумал я, но не стал обыгрывать эту тему. Не сейчас, хотя, наверное, это было бы интересно. К пиву я взял чипсы (не травиться же голыми макаронами).
Пока я ходил, Дима успел приготовиться к трапезе. Он бухнул хорошую порцию тяя прямо в кастрюлю с макаронами (воду он слил) и разделся до пояса, чтобы не заляпать рубашку. Адепт неаккуратности, он предпочитал есть раздетым, обильно роняя еду на покрытый густой шерстью живот, а потом, вылитая обезьяна, выбирал все руками, отправляя самые аппетитные крошки в рот.
– А это здесь зачем? – спросил я, увидев мелкий гребень, который Дима положил рядом с тарелкой.
– Это для чистки животика. Думаешь, наука стоит на месте?
– Ты вычесываешь этим?!
– А почему бы и нет? Что тебе не нравится?
Я представил себе Диму, вычесывающего макароны из растительности на животе, и мне стало вдруг весело. Теория Дарвина, фильм первый. Превращение обезьяны в человека! Наверно, это была разрядка, катарсис или истерика. Я смеялся, как ненормальный, смеялся до слез, сначала над Димой, потом над собой, над своими страхами, бедами, проблемами. Я вдруг представил все это со стороны…
– Ты чего? – спросил Дима, когда я, наконец, остановился.
– Ничего… это от нервов.
– Лечились бы вы, барин.
– Так наливай лекарство.
– Может, папироску?
– Можно и папироску, – я был смел и весел, как заяц во хмелю.
– Слушай, а как ты умудряешься сюда баб водить? – спросил вдруг я, выпустив дым изо рта.
– Я никого не вожу. Ко мне все приходят сами.
– Тем более. Тут вертишься, стараешься, все для нее делаешь…
– Это от незнания элементарных основ.
– Чего?
– Основ. Вселенная основана на вращениях, и ты либо в центре, либо нет.
– Это как-то и без соплей…
– Без соплей, – передразнил меня Дима. – Я стараюсь быть центром.
– Все стараются быть центрами.
– Чушь. Все стараются вертеться, я же, наоборот, стремлюсь к полной неподвижности.
– Под лежачий камень…
– Это такая же чушь, как уборка листьев в саду. У нас сосед по даче во время субботников, наоборот, загонял к себе на дачу несколько машин с листьями. Так у него груши были… Одной хватало, чтобы наесться. Так вот. Стоит тебе обрести неподвижность, как вокруг тебя тут же начинается движение. Ты становишься центром маленькой вселенной. Ты, как паук сидишь в центре паутины, а вокруг происходит жизнь. Мир начинает вращаться вокруг тебя.
Я представил себе Диму в центре патины, держащего лапки на пульсе событий и чешущего свой лохматый, обильно сдобренный макаронами и пивом живот, и мне стало совсем спокойно. Захотелось даже новых приключений.
– Пойдем, может, правда, куда-нибудь посидим? – предложил я.
– Куда пойдем?
– К Лысому.
– К Лысому так к Лысому.
Едва мы устроились за столом кафе, как перед нами появилась Светлана собственной персоной.
– Привет, – сказала она.
– Здравствуйте. Вы Светлана? – Дима посмотрел на нее так, что только двойного лорнета ему не хватало. – Мне Игорь о вас много рассказывал.
– Садись, – я пододвинул стул, – что будешь?
– Кофе. Кофе и мороженое.
– Может…
– Нет, – отрезала она. Светлана была злой.
Над столом повисла пауза.
– Ладно, пойду, – засобирался Дима.
– Кто я, по-твоему? – спросила Света, и этот ее вопрос не предвещал ничего хорошего.
– Что?
– По-твоему, со мной можно вот так?
– Как?
– Ты знаешь как. Если не хочешь меня видеть, так и скажи, но зачем прятаться по углам?
– Ты не так поняла…
– Не зли меня!
– Нет, правда. После истории твоего сумасшедшего друга…
– Он не сумасшедший!
– Хорошо… Мне надо было побыть наедине. Слишком уж как-то было муторно.
– Наедине. Ну и торчи наедине! Надумаешь – звони. Только не опоздай. – Она бросила на стол бумажку с номером и быстро вышла из кафе.
Глава 9
Постепенно моя жизнь начала обустраиваться на новом квантовом уровне. Похоже, не только элементарные частицы имеют двойственную природу. Частица-волна или человек-квант. Мы тоже, подобно электронам, существуем на своего рода стационарных орбитах. Любое изменение орбиты вызывает у нас чувство дискомфорта, независимо от того, повышается квантовое число, а следовательно, социально-личностный статус, или наоборот, понижается. И только заново утвердившись на новой стационарной орбите, мы говорим себе «фух», переводим дыхание и начинаем новую жизнь.
Дима по-своему прав. Перестав вертеться, уйдя с квантовых орбит, можно стать ядром или центром вселенной, вокруг которого будут плясать новые электроны. Надо только обладать массой покоя, что, увы, дано далеко не каждому. У меня, судя по всему, массы покоя не было, и мне, словно мотыльку, чья лампочка перегорела, необходимо было лететь во тьме в поисках новой пустой орбиты соответствующей величины, чтобы вновь обрести себя или хотя бы иллюзию себя, что меня вполне устраивало.
Таким центром был Дюльсендорф. Светланка не была, да и не могла стать центром в силу своей природной слабости или отсутствия массы покоя. Она была транспортом или той силой, что, придав правильное ускорение, вывела меня на новую орбиту вокруг Дюльсендорфа.
Наталья для меня тоже никогда не была центром, да и вращались мы в несколько иных плоскостях, которые, не спорю, пересекались, после чего расходились вновь.
Настоящим центром стала для меня милая Мага, поэтому ее потеря и явилась потерей всего. Я потерял свой центр, свое вращение, свое квантовое число. Я готов был вращаться вокруг чего угодно, даже вокруг Светланы, для которой при других обстоятельствах сам мог бы стать иллюзией центра.
Что же касательно Дюльсендорфа, он был не просто центром, а центрищем, некоей черной дырой, пожирающей все, что приближалось к нему достаточно близко. Я был слишком слаб, слишком инертен, слишком поглощен своими проблемами, чтобы не то что попытаться вырваться из-под его влияния, а даже заметить, что несусь с бешеным ускорением по уменьшающейся спирали.
Мы бежали к нему со всех ног, стоило калитке между мирами образовать достаточную щель, чтобы можно было протиснуться. Это была зависимость, которая мною не осознавалась. Я просыпался утром, выпивал кофе, после чего сразу же звонил Светлане. Она назначала мне встречу у Лысого, и мы шли к Дюльсендорфу, или приглашала к себе в однокомнатную квартиру, слишком нежилую для настоящего дома. Скорее всего, квартира появилась специально для наших встреч, и будь я хоть чуть-чуть повнимательней… но, кроме постели, меня тогда мало что волновало. Я спешил слиться с ней в любовных объятиях, иногда не удосужившись даже как следует раздеться. Стоило ей оказаться в пределе досягаемости, я буквально взрывался страстью, хотя на расстоянии мог о ней даже не вспомнить ни разу за весь день. О Маге я почти что не думал, за исключением приступов сожаления, когда в очередной раз остро осознавал, что ничего подобного в моей жизни больше не будет, а будет лишь стихающая боль утраты. Зато дама под вуалью вновь заняла первое место в моем сознании. Я буквально осязал связь между Дюльсендорфом, экспериментом и ей.
Я прочно осваивал свою новую орбиту. Наталья меня покинула окончательно и бесповоротно. Она съехала к родителям, оставив мне старую квартиру, кстати, мою. Себе она купила новую, улучшенной планировки, которую теперь приводила в божеский вид бригада строителей. Она сама занималась разводом, который был нужен ей, чтобы выйти замуж за своего принца на белом «Мерседесе». Я был за нее искренне рад. На работе меня отправили в отпуск за свой счет, что тоже не могло не радовать. Работал я исключительно ради стажа: на то, что они называли зарплатой, можно было скромно существовать дней пять, если не платить за коммуналку. Шабашек у меня хватало, к тому же они отнимали не так много времени. В общем, я был совершенно свободен.
Я начал привыкать к Дюльсендорфу, к его квартирке, к манере поведения, манере говорить. Он больше не вызывал во мне брезгливого отвращения, перестал быть неким запредельным тараканом в супе, превратившись в пришельца из других миров. Он рассказывал удивительную, невероятную, страшную историю, в реальность которой я не мог поверить. Слишком уж была она невероятна для нашей реальности, хотя в нашей реальности, а особенно в той ее части, что носила название СССР, возможна любая мерзость со стороны правительства, включая всевозможные эксперименты над своим народом.
«Тогда я вел свободный образ жизни или попросту бродяжничал, – рассказывал Дюльсендорф. – Иногда устраивался на работу, иногда занимался шабашками, не без того, но большей частью старался не утруждать себя заботой о хлебе насущном. Я был бродягой-романтиком, таким, какими в свое время были Горький, Шаляпин и многие другие. Я упивался свободой духа, предпочитая ее благополучию тела. Выглядел я всегда прилично, более того, всегда имел чистую рубашку в запасе и новые носки. Пить я почти не пил, вернее, пил, но как любой нормальный человек.
Не помню, куда мы тогда шли. Нас было человек пять веселых парней. Шли мы, скорее всего, на юг, туда, где светит солнце, где плещется море, и где можно было иногда закосить под отдыхающих в столовой одного из бесчисленных санаториев или домов отдыха.
Застряли мы в каком-то зачуханном городишке с незапоминающимся названием. С электрички нас сняли, пообещав отправить в милицию, на автобус денег не было, автостопом ехать в ночь было гиблым делом. Решили переночевать в городе, утром провести операцию «Пушнина» – собрать и сдать бутылки, если ничего иного не подвернется под руку, и разделиться. Место следующей встречи решили обсудить утром. Немного поблукав, мы обнаружили подходящий дом под снос, куда было не так уж и трудно проникнуть.
Едва мы закончили ужин: хлеб, кильки, дешевое вино, одна бутылка на всех, чисто для аппетита, – как к нам нагрянули гости. Их было человек пять в милицейской форме, но без оружия и знаков отличия.
– Всем оставаться на местах!
Какой там на местах. Руки в ноги, и кто куда – к этой братии лучше не попадаться. Я, естественно, попытался вскочить на ноги, но не тут-то было. Меня словно парализовало. Я не то что бежать – пошевелиться не мог. Я был словно во сне, когда все движения либо нарочито замедленные, либо совсем замираешь на месте, а надо срочно что-то делать. Потеряв равновесие, мы, как кули с дерьмом повалились на землю, а они, не торопясь, взяли нас под руки, вывели из здания и погрузили в машину, такую же, как пьяноуборочный комбайн, но без окон. И только после того, как за нами захлопнулась дверь, и защелкнулся замок, в жаркой, воняющей пылью и бензином темноте будки к нам пришел мучительный страх неизвестности и чувство абсолютной беспомощности. В тот момент я бы с радостью сдался в руки настоящей советской милиции с настоящим советским правосудием. То, что они были кем угодно, но только не ментами, было понятно даже дошкольнику. Менты так не умеют. Менты сначала всей толпой тебя ловят, потом бьют, потом… ГБ-шники? Возможно, и они, но зачем мы им сдались, и откуда у них такая сила?