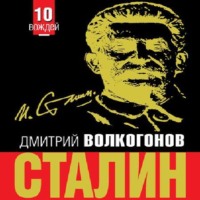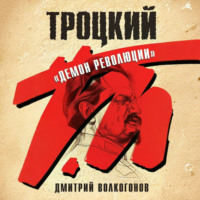Полная версия
Ленин
Открытие марксизма
Чем пленил Владимира Ульянова марксизм? Почему чтение широкого спектра различной экономической, философской и социологической литературы в конце концов задержало его взгляд и мысль именно на марксистской литературе? Здесь могут быть разные объяснения. Но, по моему мнению, сильный интеллект молодого Ульянова, располагающий уже весьма богатой научной информацией, искал одну, универсальную, все объясняющую схему человеческого бытия. И вот где‐то накануне 1889 года (тогда семья жила в Казани) в его руки попал первый том «Капитала» К. Маркса.
Можно представить, какое впечатление на вчерашнего недоучившегося студента с завышенными ожиданиями произвел этот труд своими цельностью и основательностью. Для Ульянова это могло быть озарением. Я не касаюсь исторической «проверки» марксизма и его «безгрешности», а говорю лишь о масштабах охвата этим учением бытия. Гегель однажды проницательно заметил, что «даль несет притягательный интерес…»[53]. Для молодого человека с радикальным мироощущением исторические дали и перспективы завораживали воображение, подводили, казалось, вплотную к решению вечных и «проклятых» вопросов справедливости, свободы, равенства, ликвидации гнета и эксплуатации. Здесь самое время сказать, кто приобщил Ульянова к марксистской литературе.
Когда Владимира Ульянова исключили из университета, в Казани среди части интеллигенции был известен Николай Федосеев, очень молодой марксист, с высокой эрудицией, убежденностью, смелыми суждениями. Ульянову довелось с Н.Е. Федосеевым встречаться только раз, почти десять лет спустя, когда оба направлялись в сибирскую ссылку.
Ю.О. Мартов вспоминал, что эта встреча произошла в Красноярске. Выходя из тюрьмы для следования к местам ссыльного поселения, писал позже Мартов, мы «не забрали своих пожитков, а на следующий день явились за ними в тюремный цейхгауз с телегой, которую, кроме возчика, сопровождал Ульянов в качестве… якобы хозяина телеги. Одетая в шубу купецкая фигура Ульянова показалась часовым подходящей для извозопромышленника, и они нас пропустили. В цейхгаузе же мы потребовали у надзирателя вызова Федосеева, как «старосты» политиков, для сдачи нашего имущества. Таким образом, пока мы извлекали и нагружали свое добро, Ульянов и Федосеев могли беседовать…»[54].
Но мы забежали вперед. Ленин обязан Н.Е. Федосееву непосредственным приобщением к марксизму тем, что последний свою работу по революционному просвещению будущих социал‐демократов начал с составления подробных списков‐программ: что читать и на что обратить особое внимание. Н.В. Валентинов на основании ряда достоверных источников сообщает, что Ленин в беседе с Горьким во время их встречи на Капри в 1908 году об указателе Федосеева, попавшем в его руки, отозвался с величайшей похвалой. «Лучшего пособия в то время никто бы не составил». Валентинов утверждает, и не без оснований, что работа Федосеева «открыла Ленину путь к марксизму»[55].
Ленин не часто отзывался о ком‐либо с похвалой, тем более многократно. Н.Е. Федосеев оказался тем человеком, который помог Ульянову сориентироваться в дебрях политической литературы. Подробный, аннотированный «каталог» Федосеева канализировал интеллектуальные интересы Ульянова как раз в том направлении, к чему было готово сильное мышление молодого человека. Не случайно первой заметной работой Ульянова стал его реферат «Новые хозяйственные движения в крестьянской жизни», более похожий на развернутую рецензию книги В.Е. Постникова «Южнорусское хозяйство»[56]. Реферат несет печать гимназического подражания Марксову анализу. Работа содержит весьма мало собственных идей, и не случайно «Русская мысль», куда Ульянов направил свой первый крупный труд, без колебаний его отвергла. Более удачна большая статья‐реферат «По поводу так называемого вопроса о рынках». Ульянов уже прямо противопоставляет «народническое и марксистское представление» о развитии капитализма в России, по сути, подходя к вопросу: как вместо «критически мыслящей личности» выдвигается «класс» и безличная историческая необходимость. Общественного резонанса реферат совсем не имел, ибо был не опубликован, а лишь зачитан на собрании студентов‐марксистов в Петербурге осенью 1893 года. Ульянову польстило, что студенты‐технологи С.И. Радченко, В.В. Старков, А.К. Запорожец, Г.М. Кржижановский, А.А. Ванеев, Л.Б. Красин и другие весьма похвально отнеслись к его сообщению.
Ленин продолжал работать в направлении федосеевских советов, хотя скоро вышел далеко за рамки казанского каталога. Судя как по ранним, так и по ряду поздних работ, в марксизме его пленили две главные идеи: о классах и классовой борьбе и диктатуре пролетариата. Можно сказать, что никто из теоретиков марксизма так не «развил» эти идеи, как Ульянов (Ленин). Хотя Маркс почти ничего и не говорил о диктатуре пролетариата. Ленин не ограничивается многочисленными комментариями и пересказываниями сути этих феноменов, данных Марксом и Энгельсом, но и сам формулирует «классические» определения. Обращаясь в одной из работ к деревенской бедноте, Ульянов вопрошает: «Что такое классовая борьба?» – и отвечает: «Это – борьба одной части народа против другой, борьба массы бесправных, угнетенных и трудящихся против привилегированных, угнетателей и тунеядцев, борьба наемных рабочих или пролетариев против собственников или буржуазии»[57].
Вероятно, Ленин, как и тысячи мыслителей, революционеров, бунтарей до него, попадает в историческую ловушку. Кажется, все просто: отобрать у собственников то, чего нет у обездоленных, разделить все «справедливо» и… жизнь пойдет по‐другому. Вечный мираж! В одной из ранних своих статей «Класс и человек» Николай Бердяев проницательно заметил: «Классовая борьба – первородный грех человеческих обществ». Великий русский мыслитель рассуждает: «Много раз в истории восставали народные низы, пытаясь смести все иерархические и качественные различия в обществе и установить механическое равенство… Но класс есть количество. Человек же есть качество. Классовая борьба, возведенная в «идею», закрыла качественный образ человека… Так идея класса убивает идею человека. Это убийство теоретически совершается в марксизме…»[58] Он еще не знает, что убийство, массовое, беспощадное, будет совершаться не только теоретически…
Будучи жрецом классовой магии и диктатуры одного класса над другим, Ульянов, естественно, свое восприятие марксизма не мог осуществить иначе как в борьбе с романтизмом народничества. В одной из своих ранних работ «От какого наследства мы отказываемся» Ульянов справедливо критикует народников за их неприятие капитализма в России и идеализацию крестьянской общины[59]. В критике Н.К. Михайловского – виднейшего теоретика либерального народничества голос Ульянова уже приобретает оттенки, которые скоро станут характерными и определяющими: «вздор», «клевета», «пустяковинная выходка». Безапелляционность тона «защитника» марксизма часто подменяет аргументы. Во многих работах Ульянов, доказывая, обосновывая, подтверждая «необходимость» диктатуры пролетариата, не пытается задуматься над элементарным вопросом: разве совместима справедливость (а марксизм лелеет эту главную идею!) с диктатурой? По какому праву один класс безоговорочно командует другим? Можно ли с помощью диктатуры достичь приоритета главной ценности – свободы? Союз рабочего класса и крестьянства при диктатуре пролетариата просто бессмыслица… Само по себе равенство прав и обязанностей – хорошая идея. Но пользуются этими правами и исполняют свои обязанности люди по‐разному.
Но эти вопросы не волнуют молодого Ульянова. Марксизм с самого начала принят им окончательно и бесповоротно. Соглашаясь с действительно научной основой анализа экономического базиса общества, Ульянов ни разу не подверг сомнению социально‐политическую концепцию марксизма, основанную в конечном счете на насилии, ставке на силовое разрешение любых противоречий в интересах одного класса. Встретившись и приняв марксизм, молодой социал‐демократ не засомневался в исторической порочности и ограниченности силовой методологии созидания нового общества. Не случайно, что, когда он станет вождем, в руках которого будет сосредоточена вся полнота власти, предметом его постоянной и особой заботы станут ЧК, ГПУ, другие карательные органы диктатуры пролетариата.
Знакомясь с протоколами Политбюро ЦК РКП(б), в заседаниях которого принимал участие В.И. Ульянов (Ленин) после октябрьского переворота, с горечью убеждаешься: нет почти ни одного совещания этого органа, где бы не рассматривались меры по ужесточению диктатуры пролетариата, а фактически диктатуры партии, расширению полномочий карательных органов, узаконению террора, проявлению особой заботы о сотрудниках этой новой касты неприкасаемых, классовая «чистота» ее рядов и т. д.
Так, на заседании Политбюро 14 мая 1921 года при активной поддержке Ленина было принято решение о расширении прав ВЧК «в отношении применения высшей меры наказания»[60]. По инициативе главного марксиста в России то же Политбюро в январе 1922 года делает дополнительный шаг в укреплении карательной функции диктатуры и обеспечения «классовой линии» в обществе путем образования Государственного политического управления (ГПУ). Главная задача – борьба с контрреволюцией с использованием широчайшего набора средств физического и духовного насилия. Не забыли и о судах: «В состав суда вводить лиц, выдвигаемых ВЧК»[61], узаконивая тем самым беззаконие.
А как должны действовать органы диктатуры (а ведь это главное звено в доктрине марксизма!), Ленин не раз демонстрировал сам. Когда пришла шифровка о том, что пленен барон Унгерн, один из руководителей белогвардейских отрядов в Забайкалье, Ленин в августе 1921 года лично сам внес на рассмотрение Политбюро (фактически высшего органа «пролетарской диктатуры») вопрос «О предании суду Унгерна». Естественно, возражений не было; ведь рядом с ним сидели такие же якобинцы, как и он сам: Троцкий, Каменев, Зиновьев, Сталин и Молотов. Обсуждения тоже не было, ведь все с самого начала было и так ясно. Ленину лишь осталось продиктовать постановление Политбюро как высшего партийного трибунала: «Добиться солидности обвинения, и если доказанность полнейшая, в чем не приходится сомневаться, то устроить публичный суд, провести его с максимальной скоростью и расстрелять»[62].
В этой фразе в форме ужасного гротеска виден конечный смысл формул «неизбежности классовой борьбы» и «очищающей роли диктатуры пролетариата». В «полнейшей доказанности», конечно, «не приходится сомневаться», а посему суд «провести с максимальной скоростью». Но зачем суд, если уже приговор Политбюро вынесен: «расстрелять»… Но в том‐то и дело, что в той системе, дальние истоки которой начали теоретически осмысливаться Ульяновым еще в конце прошлого века, вопросы задавать некому… Вопрошать, а тем более сомневаться или, упаси боже, оспаривать решение тех, кто действовал от имени «диктатуры пролетариата», было смертельно опасно.
Иной читатель может сказать, что в моих рассуждениях нарочитая упрощенность и вульгаризация сложных проблем. Допускаю. Но теоретические рассуждения вообще безобидны до тех пор, пока они не облачаются в политическую тогу. Не свершись октябрьские события, мы сегодня о В.И. Ульянове знали бы не больше, чем о Викторе Адлере, Эдуарде Бернштейне, Н.К. Михайловском, П.Б. Струве, М.И. Туган‐Барановском, С.Н. Южакове… Но в книге речь идет о человеке, который смог в максимальной мере использовать исторические обстоятельства и осуществить самый грандиозный и беспощадный эксперимент в человеческой истории. Этот эксперимент в огромной мере отражал то, что открыл молодой волжанин в «Капитале», десятках других работ прародителей марксизма, опирался на те устои в сознании, которые Ульянов создавал сам, творя российскую модель «научного социализма».
Николаю Евграфовичу Федосееву, при всем богатстве его молодого интеллекта, не могла, конечно, даже прийти в голову сумасшедшая мысль, что тот человек с «купецкой фигурой в шубе», с которым он лишь один раз накоротке поговорил во дворе тюремного двора, станет главной фигурой в истории XX века. Переписка будущего вождя русской революции с Федосеевым, отзывы, которые слышали близкие об этом человеке, не оставляют сомнения в том, что, казалось бы, мимолетное влияние молодого марксиста стало решающим, хотя внешне и незаметным, толчком, подвигнувшим Ульянова в жесткую колею революционного мировоззрения. Не случайно печальная весть о самоубийстве после третьего ареста Федосеева в Верхоленске повергла Ленина в неподдельную печаль. Смерть ссыльного была окрашена в тона романтической трагедии: узнав о кончине Федосеева, его невеста Мария Гонфенгауз, находившаяся на принудительном поселении в Архангельске, с которой В. Ульянов был лично знаком, тоже покончила с собой. Ленин не раз вспоминал, и весьма тепло, о молодом социал‐демократе, сыгравшем в его судьбе, по‐видимому, весьма большую духовную роль. Горький писал, что Ленин, когда речь однажды зашла о Федосееве, оживился, стал с воодушевлением говорить о том, что, если бы он был жив, «наверное, стал бы выдающимся большевиком»[63]. Собеседнику Горького, видимо, даже не могла прийти крамольная мысль: социал‐демократ мог стать и меньшевиком.
Для Ленина марксизм означал прежде всего одно явление: революцию. О ней он мог читать, слушать, писать бесконечно. Когда чета Ульяновых в 1902–1903 годах жила в Лондоне, Ленин не любил посещать знаменитые лондонские музеи (за исключением Британского музея, где его привлекали не уникальные экспонаты, а библиотека). Крупская вспоминала: «В музее древности через 10 минут Владимир Ильич начинал испытывать необычайную усталость, и мы обычно очень быстро выметались из зал, увешанных рыцарскими доспехами, бесконечных помещений, уставленных египетскими и другими древними вазами. Я помню один только музейчик, из которого Ильич никак не мог уйти, – это музей революции 1848 года в Париже, помещавшийся в одной комнатушке, – кажется, на… rue des Cordilliиres, – где он осмотрел каждую вещичку, каждый рисунок»[64].
Уже первое знакомство с марксизмом привлекло Ленина революционностью, основанной на солидном экономическом фундаменте. Ленин впитывал идеи и постулаты марксизма как убежденный прагматик. Его мало интересовали ранние Маркс и Энгельс с их гуманистическими исканиями. Он был в упоении от стихии классовой борьбы.
Ленин еще в молодости твердо уверовал в то, что социальный вопрос не может решаться на гуманистической основе.
На пороге века, когда молодой Ульянов, встретившись с марксизмом, с упоением окунулся в мир его категорий, законов, принципов, легенд и мифов, он с благоговением относился к Г.В. Плеханову. Может быть, и потому, что черпал в его трудах идеи Маркса, освобожденные от чисто «западного» видения исторической эволюции. Молодой Ульянов был очарован появившейся на российском книжном рынке работой Н. Бельтова (Плеханова) «К вопросу о развитии монистического взгляда на историю». В литературно‐политической биографии А.Н. Потресова Борис Николаевский так пишет о значении этого труда Плеханова: «Книга составила целую эпоху в истории российского марксизма. Бельтов принес, наконец, с горы Синая десять заповедей Маркса и вручил их русской молодежи – такой несколько напыщенной фразой откликнулся на книгу один из молодых эмигрантов‐социал‐демократов С. Ганелин, – эта фраза как нельзя более характерна для впечатления, произведенного книгою на широкие слои молодежи. Русская интеллигенция, – и в первую очередь студенческая молодежь, которая в те годы составляла авангардный отряд революционной армии, – писал Николаевский, – по этой книге познакомилась с неискаженным революционным марксизмом»[65]. Этого, раннего Плеханова Ульянов почитал. Например, изучая фундаментальную работу Плеханова о Чернышевском, Ленин с удовлетворением отмечает преклонение Плеханова перед пролетариатом и, наоборот, констатацию им глубокой рутинности русского крестьянства. В памяти Ульянова навсегда остались слова Плеханова о том, что «Чернышевский не упускал случая посмеяться в своих статьях над русскими либералами и печатно заявить, что ни он, ни вся крайняя партия не имеют с ними ничего общего. Трусость, недальновидность, узость взглядов, бездеятельность и болтливая хвастливость – вот отличительные качества, какие он видел в либералах…». Здесь каждое слово созвучно умонастроению Ульянова, с презрением, а порой и ненавистью пинавшего «презренных либералов».
Ленин не мог не отметить, что Г.В. Плеханов эпиграфом к своей книге о Чернышевском взял его слова из письма к жене, написанного в Петропавловской крепости 5 октября 1862 года: «Наша с тобой жизнь принадлежит истории; пройдут сотни лет, а наши имена все еще будут милы людям, и будут вспоминать о них с благодарностью, когда уже не будет тех, кто жил с нами»[66]. Думаю, что слова Чернышевского были также внутренне близки Ульянову. Он не был тщеславен и честолюбив, он просто верил в свою историческую миссию… Работы Плеханова еще больше сблизили молодого революционера с Чернышевским и окончательно подвигли к Корану социал‐демократов – трудам Маркса.
В дальнейшем, однако, дороги Плеханова и Ленина разошлись. Считают почему‐то, что главный пункт расхождений – организационные вопросы. Думаю, что это производное. Главное, в чем разошелся Ленин с Плехановым, вступив в век XX, – это отношение к свободе. Уже в конце XIX столетия Ульянов, как и Чернышевский, видел главных врагов рабочего класса в либерализме и так называемом экономизме. По мысли Ленина и его последователей, именно либералы и «экономисты» уводят трудящихся от политической борьбы. Именно либерализму и «экономизму», составляющим ключ демократических преобразований, в конце концов не оказалось места в том марксизме, который исповедовали Ленин и большевики. Вот почему он до конца дней с симпатией относился к «раннему» Плеханову и открыто враждебно к «позднему», тому, кто назвал курс Ленина в 1917 году «бредовым». Интересно, что, когда в апреле 1922 года возник на Политбюро ЦК РКП(б) вопрос о печатании Плеханова, Ленин настоял, чтобы патриарха марксизма в России издали только в одном томе сборника, куда включили лишь ранние, «революционные работы»[67].
«Позднего» Плеханова Ленин не любил, а пореволюционного – ненавидел. Думаю, что Плеханов раньше других «раскусил» Ленина. Он понял суть и опасность его линии. Так, в своей статье «Комедия ошибок», опубликованной в «Дневнике социал‐демократа», в февральском номере за 1910 год, Плеханов, отвечая М.А. Мартынову, между делом исключительно глубоко характеризует Ленина как сторонника «тактики бланкистов народовольческого типа. Только Ленин мог додуматься до того, чтобы «спрашивать себя, на какой месяц должны мы назначить вооруженное восстание…». Ленинские проекты, суть которых сводится лишь «к захвату власти», Плеханов назвал «утопией»[68]. Патриарх марксизма в России раньше других рассмотрел опасный радикализм ленинских устремлений как высшую самоцель. И мы знаем, что, когда власть оказалась в руках Ленина и его партии, они быстро и полностью забыли многие из своих лозунгов и обещаний (об Учредительном собрании, свободе слова и печати, союзах с другими социалистическими организациями и т. д.). Власть для Ленина была целью и средством решения всех его утопических предначертаний.
Ленин, впитывая марксизм через прямое изучение трудов основателей учения, «поглощает» идеи, которые могут вписаться в его собственную «обойму», самых разных авторов и теоретиков: Плеханова, Михайловского, Ткачева, Бакунина, Туган‐Барановского, Струве и других мыслителей. Прочел даже книжку Парвуса «Мировой рынок и сельскохозяйственный кризис», написанную автором в 1898 году. Ленин не знал еще, что этот человек сыграет неожиданно и весьма конфиденциально большую роль[69]. Вероятно, это является сильной чертой: способность осмыслить и под влиянием собственных «ферментов» усвоить, «переварить» и ассимилировать те или другие идеи в свои взгляды. Но Ленин никогда не смог интегрировать в собственное мировоззрение идеи либералов (воспевающих цивилизованную свободу!), «экономистов» (желающих конкретного процветания людей труда), западных демократов (считающих ценностью первой величины парламентаризм). Так что «открытие марксизма» Владимиром Ульяновым было как у классового дальтоника: он видел и принимал лишь то, что хотел видеть и принимать. Даже Троцкий, который после октября 1917 года стал и остался до конца своих дней, как он пишет, «ленинцем», на заре века критиковал Ленина именно за отсутствие «гибкости мысли», умаление роли теории, что может в конечном счете привести к «диктатуре над пролетариатом»[70].
Но уже в начале века, погружаясь мыслью в книжную ткань марксизма, Ленин проявил редкую враждебность ко всему тому, что не укладывалось в прокрустово ложе его представлений. В своем письме А.М. Горькому из Женевы в феврале 1908 года по поводу философской работы Богданова (с которым он тогда был довольно близок) Ленин пишет: «Прочитав, озлился и взбесился необычайно: для меня еще яснее стало, что он идет архиневерным путем». Дальше – в том же духе: прочитав «Очерки по философии» – «прямо бесновался от негодования». Его «бесило», что большевики могут черпать учение о диалектике «из вонючего источника каких‐то французских «позитивистов»…[71]
Еще на грани веков Ленин уверовал в свою теоретическую безгрешность, если это касается оценки его оппонентов. Но его марксизм явно однобокий, бланкистский, сверхреволюционный. Как человек с «истиной в кармане», писал Виктор Михайлович Чернов, «он не ценил творческих исканий истины, не уважал чужих убеждений, не был проникнут пафосом свободы, свойственным всякому индивидуальному духовному творчеству. Напротив, здесь он был доступен чисто азиатской идее: сделать печать, слово, трибуну, даже мысль – монополией одной партии, возведенной в ранг управляющей касты»[72].
Где бы Ленин ни находился: в горах Швейцарии, парижском кафе, Британской библиотеке, на вилле у Горького, он мог сколько угодно говорить, а главное, спорить о марксизме, его революционной сущности.
Маркс и Энгельс были теоретиками. Ленин их учение превратил в катехизис классовой борьбы. Как отмечал А.И. Куприн: «Для Ленина Маркс – непререкаем. Нет речи, где бы он не оперся на своего Мессию, как на неподвижный центр мироздания. Но, несомненно, если бы Маркс мог поглядеть оттуда на Ленина и на русский сектантский, азиатский большевизм, – он повторил бы свою знаменитую фразу: «Простите, месье, я не марксист».
Ленин «открыл» марксизм как символ и Библию освобождения людей от эксплуатации человека человеком и преклонения перед социальной справедливостью. Однако еще в самом начале, когда молодой Ульянов рассматривал лежащий в туманной дымке целый континент марксизма, он больше думал о власти на этом материке, чем о свободе от нее. То, что хотели увидеть либералы, экономисты, демократы в марксизме, для него казалось абсолютной ересью. Покоренные ослепительной святостью этого человека, мы долгие десятилетия видели то, что нам показывали. А показывали нам, в сущности, ленинский большевизм как разновидность российского якобинства и бланкизма.
Вечно только прошлое. В его тенях и призраках всегда хранится много тайн. Но там же немало и отгадок.
Надежда Крупская
В узком семейном кругу Владимира Ульянова были в основном женщины: мать, сестры, жена, мать жены. При отсутствии собственных детей и в силу особого отношения к нему в семье с детства, Ульянов был постоянно в эпицентре женской заботы родных.
Российские социал‐демократы «женским вопросом» занимались в основном в рамках облегчения социального положения женщины в обществе. Нравственные грани политических программ были размыты, подчинены прагматическим интересам текущего момента. Когда‐то в своих «Элементах идеализма в социализме» В.И. Засулич заметила, что у марксизма нет «официальной системы морали»[73]. Пролетариат и все, кого мы называли социалистами, ценили прежде всего солидарность и преданность идеалам. Да и сам Ленин в своей знаменитой речи на III съезде РКСМ сформулировал духовное кредо людей новой формации: нравственно все то, что служит делу коммунизма.
Мы все (включая, естественно, и автора книги) видели в этом тезисе мудрость высшего порядка, не желая понимать, что такой подход глубоко аморален. При помощи его можно оправдывать любые преступления против человечности и самые тривиальные политические злодеяния. И оправдывали. Не только в полночь сталинской эпохи (конец тридцатых годов), но и в более ранние и более поздние времена.
…Дзержинский в ноябре 1920 года докладывал Ленину, центральным властям: «Сегодня прибыли в Орел из Грозного 403 человека мужчин и женщин казачьего населения возраста 14–17 лет для заключения в концлагерь без всяких документов за восстание. Принять нет возможности, ввиду перегруженности Орла…»[74] Ленин не возмутился, не пресек, не остановил преступление в отношении «мужчин и женщин 14–17 лет»… Оставил лаконичное: «B архив». Конечно, можно сказать, впрочем, и говорят, что «время было такое», что надо «смотреть на вещи в контексте исторической обстановки» и т. д. Нет, все это далеко не так. Есть универсальные и вечные категории Добра, Справедливости, Свободы, которые были «в цене» всегда. Апологетика насилия как универсального средства решения социальных и политических проблем, взятого большевиками на вооружение, диктовала подобные решения: «В архив».