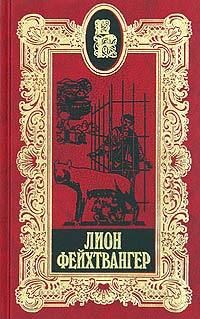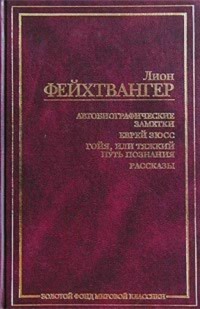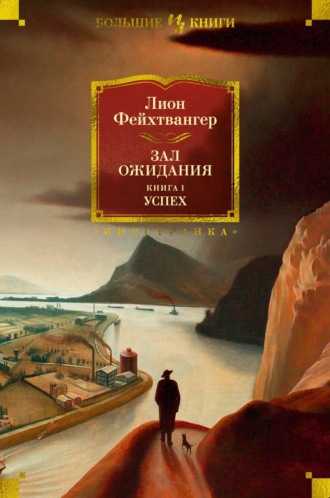
Полная версия
Зал ожидания. Книга 1. Успех
Подобное же чувство охватило многих из присутствовавших мужчин, когда эта гневная женщина выступила перед судьями. Полураскрыв пухлые губы, с чуть глуповатым выражением на полном лице, широко раскрытыми, уже не затянутыми поволокой глазами глядел на нее элегантный г-н Гессрейтер. Так, так! Значит, вот эта самая Иоганна Крайн, которой он однажды отдавал для анализа образцы почерка Катарины, была подругой Крюгера. В тот раз, когда он имел с ней дело по поводу этого анализа, она очень понравилась ему. Она нравилась ему и сейчас. Он вспомнил письма Гайдер, мысленно сравнил девицу Анну Элизабет Гайдер с девицей Иоганной Крайн. Не мог понять Крюгера. Решил, что тот глуп, некультурен, антипатичен. Настойчивым, ясным взглядом из-за толстых стекол очков не отрываясь глядел на свидетельницу адвокат доктор Гейер, и тонкая кожа его лица то краснела, то бледнела. Видя ее такой взволнованной, он почувствовал неуверенность в результатах этого выступления, с другой же стороны, он возлагал надежды на впечатление, производимое на присяжных ее неподдельным гневом. На скамьях репортеров произошло движение. Сухой, торжествующий тон, которым доктор Гейер потребовал вызова этой свидетельницы, обещал интересный оборот в ходе процесса. Оставалось только по-журналистски максимально использовать ее показания. Рисовальщики работали с напряжением, стараясь возможно эффектнее запечатлеть недюжинное лицо, широкий лоб, короткий нос, полный рот, всю гневную позу женщины. Какой-то профессиональный скептик давал пояснения: эта стройная дама существует якобы своими графологическими анализами. Такие анализы у нее заказывают почти исключительно мужчины, и большой вопрос, оплачивают ли они при этом именно ее профессиональные знания.
Крайне неприятно задет был неожиданным появлением свидетельницы прокурор. Вряд ли он сможет повлиять на эту женщину с ясным и гневным взором в таком духе, как это нужно было баварскому правительству, вряд ли смогут произвести на нее впечатление его умно поставленные вопросы, вряд ли он склонит ее на свою сторону в вопросе виновности подсудимого. По-видимому, уже благодаря своей привлекательности она успела завоевать симпатии зала еще до того, как раскрыла рот. Кроме того, нельзя было отрицать, что защитник доктор Гейер сумел выбрать подходящий с психологической точки зрения момент.
Председательствующий, ландесгерихтсдиректор Гартль впервые за все время процесса проявил некоторое беспокойство. Он несколько раз высморкался, что побудило присяжного Лехнера со своей стороны еще чаще вытаскивать свой пестрый платок. Председательствующий снял берет, вытер пот с лысины, чего он, несмотря на жару, еще ни разу не делал.
Неожиданное выступление свидетельницы внесло в до сих пор так гладко протекающий процесс известную шероховатость, открыло перед честолюбивым чиновником возможность показать свои способности в сложной обстановке: нужно было не чинить препятствий защите обвиняемого, не ставя в то же время под угрозу и обвинительный приговор.
Свидетельница Крайн показала следующее: обвиняемый, доктор Крюгер, был ее другом. «Что это значит?» На этот раз защита потребовала закрытия дверей. Но так как председатель в большой аудитории видел средство, могущее стеснить нежелательную свидетельницу, требование было отклонено. Иоганна Крайн должна была давать показания публично. – Желает ли она сказать, что состояла с обвиняемым в интимной связи? – Да. – Что же она знает о событиях той ночи, когда доктор Крюгер был на вечеринке в доме по Виденмайерштрассе? – В ту ночь доктор Крюгер приходил к ней. – Лица присяжных одним резким движением, словно притянутые, повернулись к свидетельнице. Даже на тупом лице почтальона Кортези отразилось напряженное внимание. Мягкий рот учителя гимназии Фейхтингера, окруженный волнистой черной бородкой, округлился весьма неприятным для прокурора удивлением. Обеспокоенный сенсацией, которую явно производили показания свидетельницы, прокурор спросил, помнит ли она точно время, когда Крюгер явился к ней. Прерывистое, громкое, напряженное дыхание сидящих в зале. – Да, – четко ответила Иоганна Крайн, – она помнит. Это было в два часа ночи.
В душном, переполненном людьми зале стало совсем тихо. – Каким образом, – несколько охрипшим голосом спросил прокурор, – она могла настолько точно запомнить час? – Со спокойной уверенностью, не чересчур сухо и не чересчур обстоятельно, свидетельница Крайн рассказала историю о предполагавшейся прогулке в горы. Как Мартин вначале не хотел ехать с ней, затем, видимо раскаиваясь, уехал с вечеринки, ночью явился к ней и разбудил ее. Вполне естественно, что тут ее первый взгляд был брошен на часы. Она и Крюгер потом, разумеется, еще долго обсуждали вопрос о поездке: ведь если человека будят в два часа ночи, то нелегко затем подняться в половине пятого. Крюгер слушал внимательно, он сам готов был поверить тому, что она рассказывала.
Сейчас, – закончила свидетельница Крайн свои объяснения, – она очень жалеет, что не отправилась в тот день с Крюгером на вечеринку, тогда не было бы всего этого процесса. – Эти последние слова свидетельницы были – как «к делу не относящиеся» – прерваны строгим замечанием доктора Гартля.
Пока продолжался допрос свидетельницы Крайн, по требованию прокурора послали за шофером Ратценбергером, чтобы устроить ему очную ставку со свидетельницей. Допрос между тем продолжался все с той же остротой и настойчивостью. Прежде всего ее спросили, имели ли место и в ту ночь, с 23-го на 24-е, между ней и обвиняемым интимные отношения. Снова доктор Гейер потребовал закрытия дверей, и снова требование его было отклонено. Упрямо, четко, сильно побледнев, Иоганна, невольно перейдя на местный диалект, заявила, что – да, и в ту ночь она принадлежала Мартину. Каждое ее слово, малейшее ее движение были проникнуты силой и прямолинейностью. Она была исполнена неудержимой ярости против своих земляков. Учитель гимназии Фейхтингер испытывал буквально страх перед неукротимым, решительным взглядом ее серых глаз. Живет ли она одна, – спросили ее дальше, – и как могло случиться, что обвиняемый пробрался к ней никем не замеченный. Она ответила, что живет вместе со своей теткой Франциской Аметсридер, пожилой дамой, которая обычно рано укладывается спать. Занимаемые Иоганной комнаты находятся в стороне. Крюгер, имевший ключ от дверей, мог удобно и никем не замеченный попадать к ней. Улыбка соскользнула с лица ветреного присяжного фон Дельмайера. Он сочувственно кивал головой. Прокурор тут же мысленно решил прощупать поведение этой милой тетушки и проверить, не содержит ли оно элементов сводничества.
Знала ли свидетельница Крайн, – допытывался дальше прокурор, – что доктор Крюгер состоял в близких отношениях и с другими женщинами? – Да, она об этом знала. Это были мимолетные связи, которые она прощала ему. – Это заявление произвело неблагоприятное впечатление. Прокурор счел нужным выразить удивление. – Но совершенно исключается, – продолжала Иоганна Крайн, – чтобы Крюгер прямо из спальни другой женщины явился к ней. – «Гм», – промычал прокурор. «Гм» и «н-ну», – промычали и другие. «Это совершенно исключается», – с силой и возбуждением повторила Иоганна. Председатель предложил ей быть сдержаннее. Рисовальщик «Берлинер иллюстрирте цейтунг» сделал эффектный набросок: Иоганна в гневе поворачивает свое широкое красивое лицо к грубому лицу прокурора. Всегда, глядя на человека, она поворачивалась к нему всем лицом. – На какие средства она существует? – пожелал узнать прокурор. – У нее, – заявила она, – есть небольшое личное состояние; кроме того, кое-какой доход дают ей и ее графологические исследования. Она не понимает, впрочем, какое отношение к делу имеет этот вопрос. Председатель доктор Гартль в третий раз мягко, но решительно призвал ее к порядку.
Получала ли она деньги от доктора Крюгера? – с раздражающей медлительностью продолжал допрашивать прокурор. Тут Мартин Крюгер, с мрачным, замкнутым лицом прислушивавшийся к последним вопросам прокурора, вышел из себя. Насторожились художники, но на этот раз только сотруднику «Лейпцигер иллюстрирте цейтунг» удалось запечатлеть выразительную позу Крюгера, в бешенстве взмахнувшего руками и уставившегося на прокурора своими выпуклыми серыми глазами из-под густых бровей. Прокурор с ироническим терпением выдержал этот яростный взгляд. Он не потребовал даже от председателя защиты. – Итак, – продолжал он невозмутимо, словно ничего не случилось, свой допрос, – итак, получала ли фрейлейн Крайн от обвиняемого подарки в виде денег или ценностей? – Да, – ответила свидетельница, – она несколько раз получала цветы, один раз корзинку со съестными продуктами, однажды – пару перчаток, получала и книги. – Придворный поставщик Дирмозер с интересом посмотрел на крепкую, детскую руку Иоганны. Во время приведения свидетельницы к присяге он с неодобрением отметил, что ей не пришлось снять перчаток, так как она пришла без них. Сейчас его отношение как к Иоганне, так и к Крюгеру утратило значительную долю своей враждебности. – Что касается денежной ценности этих подарков, – спокойно объяснил Крюгер, – то корзинка со съестными продуктами стоила, если он не ошибается, восемнадцать марок пятьдесят пфеннигов. Возможно, впрочем, что и двадцать две марки. Ввиду все продолжающегося падения денег он не может вспомнить это с точностью. – Председатель, сам слегка, хотя и принужденно, улыбаясь, выразил неодобрение по поводу неуместного оживления в зале. – Не выдвигалось ли когда-нибудь обвинение против Иоганны Крайн в шарлатанстве? – поинтересовался прокурор. – Нет, такого обвинения никогда не выдвигалось. – Защитник предложил предъявить отзывы экспертов, признававших графологические анализы свидетельницы научно ценными. Суд не пожелал ознакомиться с этими отзывами, считая это несущественным. В глубине души доктор Гартль злился на прокурора, который, по-видимому, от неожиданности утратил всякую способность логически рассуждать и перешел к грубой тактике. Свидетельница явно привлекала на свою сторону даже тех, кого вначале неодобрительно настроила ее чрезмерная смелость, и сейчас пользовалась всеобщей симпатией. К тому же она, все более волнуясь, говорила с резким местным, баварским выговором. Ее слова, вся ее манера держаться были таковы, что никому не могло прийти в голову заподозрить в ней приезжую, «чужачку».
Посвящал ли ее обвиняемый в подробности своих отношений с другими женщинами? – продолжал прокурор, оставаясь на явно ложном пути. – Нет, никогда она не спрашивала его, и никогда они на эту тему не говорили. Она знала об этих отношениях только в самых общих чертах. – Не может ли она, – продолжал прокурор, – сообщить что-нибудь в связи с письмами покойной девицы Гайдер; в частности, не осведомлена ли она об эротических привычках доктора Крюгера? – При этом вопросе по аудитории пронесся шепот неодобрения. Легкомысленный присяжный Дельмайер разразился неприятным козлиным смешком, вызвавшим взгляд непримиримой ненависти со стороны доктора Гейера, после чего бледный молодой человек испуганно умолк, резко оборвав смех.
Но тут, тяжело дыша и широко взмахнув рукой, поднялся присяжный Гессрейтер. Эта смелая баварская девушка радовала его сердце. «Когда смелость в груди нарастает волной», – вспомнил он известные когда-то стихи баварского короля Людвига I, не зная хорошенько, отнести ли эти стихи к себе или к этой девушке. Он находил обращение с ней недостойным. Выпрямившись, он непривычно решительным тоном сказал, что считает себя вправе от лица всех присяжных заявить, что последний вопрос прокурора является совершенно излишним. Присяжный Каэтан Лехнер, антиквар, медленно, но решительно закивал головой, выражая свое согласие. Он с самого начала не одобрял обращения со свидетельницей Крайн. Так поступать не полагалось. Он вспомнил свою покойную жену Розу, в девичестве носившую фамилию Гюбер и служившую кассиршей. Он придерживался того принципиального мнения, что с женщиной нельзя обходиться так грубо, как обходится здесь прокурор. Он подумал и о своей дочери Анни, негоднице, о которой нельзя было знать, не попадет ли и она когда-нибудь в такое же положение, как эта Иоганна Крайн. С особым чувством он подумал о своем сыне Бени, которого люди когда-то посадили за решетку. Баварская юстиция сейчас не вызывала особого одобрения Каэтана Лехнера. Председатель тоном вежливого порицания заявил, что дело суда высказываться о допустимости того или иного вопроса. Свидетельница Крайн заметила, что вопрос ей непонятен. Прокурор ответил, что этого с него достаточно.
При очной ставке между шофером и Иоганной Крайн Франц Ксавер Ратценбергер держался чрезвычайно уверенно. Снова был поставлен вопрос о том, нет ли ошибки в числе месяца или в часе. Нет, никакой ошибки здесь быть не могло. Шофер в два часа ночи с 23 на 24 февраля подвез доктора Крюгера к дому номер девяносто четыре по Катариненштрассе, и доктор Крюгер вместе с девицей Анной Элизабет Гайдер вошел в дом. Да, но ведь Крюгер в два часа ночи находился в постели свидетельницы Крайн на Штейнсдорфштрассе? Во время очной ставки шофер вдруг переменил тон, стал простовато-добродушен. Барышня, должно быть, просто ошибается. Женская память такая уж непрочная штука! Он производил довольно благоприятное впечатление. Но упорство и неподдельный гнев Иоганны Крайн также оказывали сильное влияние на настроение присяжных и публики. Председательствующий, честолюбивый чиновник доктор Гартль, не без смущения закрыл судебное заседание, впервые ощущая некоторые опасения за благоприятный исход процесса.
17. Письмо из камеры сто тридцать четыре
Г-жа Франциска Аметсридер о показаниях Иоганны Крайн узнала из газет. Теперь только стало ей понятно, почему непрерывно звонит телефон и почему появляются все новые посетители, из которых, разумеется, далеко не все приходят за графологическими исследованиями.
Г-жа Аметсридер выпроваживала посетителей и в конце концов выключила телефон и дверной звонок. Отправилась к Иоганне, готовая к бою, неся на коротких крепких ногах, как боевое орудие, свое полное упругое тело к неразумной племяннице. Ясные светлые глаза воинственно поблескивали из-под огромного мужского черепа, покрытого коротко подстриженными, лишь кое-где поседевшими волосами. Она предполагала, что Иоганна ее не примет.
Но Иоганна впустила ее. Выжидательно, даже учтиво, глядела она на свою воинственную круглую тетушку. Не распространяясь о моральной стороне дела, та постаралась резонно доказать, что, во-первых, показания Иоганны едва ли изменят что-нибудь в судьбе Мартина Крюгера и что, во-вторых, Иоганна, принимая во внимание господствующие в Мюнхене настроения, раз навсегда разрушила материальные основы своего существования. Иоганна, не пускаясь в обсуждение многочисленных аргументов тетки, коротко спросила, что же, по ее мнению, следует предпринять при создавшемся положении. И тут, как нередко бывало, выяснилось, что хотя у тетки и существовало твердое и непоколебимое мнение о случившемся, но, кроме весьма смутных и неопределенных планов на будущее, ничего в запасе не было. В конце концов Иоганна заметила, что если тетку стесняет ее пребывание в квартире, то пусть она просто скажет, когда ей выехать. Не подготовленная к такому обороту и с трудом сохраняя свой решительный тон, тетка ответила, что хоть слово-то сказать по поводу происходящего человек имеет право! Иоганна, с потемневшими от гнева глазами, неожиданно громко, с резким местным акцентом заявила, что теперь она хочет, чтобы ее наконец оставили в покое и пусть тетя поскорее убирается. Тетка ответила, что пришлет Иоганне чай и бутерброды, и удалилась мало удовлетворенная.
Уходя, она оставила на столе пачку писем и газет. Иоганну осыпали самыми грубыми ругательствами. Многие писали, что ее выступление ни в какой мере не доказывает невиновности доктора Крюгера. Почему бы такому «чужаку», как он, и не перейти на протяжении нескольких минут от одной легкодоступной особы к другой? Она увидела в газетах свое изображение в самых разнообразных позах. Все они, за исключением только одной, были так неестественны, что она задала себе вопрос, неужели она и в самом деле держала себя так театрально? Некоторые газеты защищали ее, но делали это в обидно-благожелательном тоне людей, которые «все готовы понять». Большинство из них потешалось над ее занятиями графологией, кое-где в осторожной форме даже высказывалось предположение, что графология в данном случае служила лишь удобным средством для «ловли мужчин». Остальные, правда, брали под защиту ее профессиональную деятельность, но при этом они пользовались таким высокомерно-покровительственным стилем, что их дружелюбные замечания были еще несноснее, чем враждебные выпады. Во многих письмах ей обещали «показать». Эти письма были полны гнусных, иногда весьма красочных уличных ругательств, частью даже неизвестных Иоганне, хотя ей и приходилось иметь дело с обитателями заречных предместий.
Новый порыв бешенства охватил ее. Резким движением смела она со стола пачку печатной и исписанной бумаги и стала топтать ногами эту кучу составленной из букв грязи. Что-нибудь сделать! Ударить! Дать по физиономии одному из этих негодяев! Но припадок длился недолго. Она замерла в странно судорожной позе, закусив верхнюю губу, напряженно думая. Необходимо сохранить присутствие духа. После того как Мартин Крюгер так глупо попался в руки ее скотски ограниченным землякам, чертовски трудно будет вырвать его из их лап.
Она постаралась стряхнуть свое оцепенение, села, машинально сунула руку в кучу лежавших перед ней писем. Почерк на одном из конвертов смутил ее. Это было письмо от Мартина Крюгера.
Она не зашла к Крюгеру после заседания суда. У него есть склонность к театральным сценам, которой она не разделяет. Он, наверно, произнес бы что-нибудь патетическое. И вот он написал ей. Она досадливо глядит на конверт. Писать было не о чем. Три бороздки прорезают ее лоб. Сердито дыша, она вскрывает конверт.
Он не хочет этого, – писал Мартин Крюгер. – Рыцарские жесты, как ей известно, ему чужды. Но он не желает, чтобы именно сейчас, когда он явно и надолго попал в тяжелую полосу, другой связывал с ним свою судьбу. Он просит ее предоставить его самому себе и баварской юстиции. Он возвращает ей свободу.
Иоганна закусывает верхнюю губу. Только этого не хватало. Возвращает свободу! Она не выносит такой глупой болтовни. Безвкусные фразы из «семейного журнала». Он изрядно опустился за время своего предварительного заключения.
Она держит в руках письмо. Внезапно, поддаваясь внутреннему порыву, она вставляет его в аппарат, которым она обычно пользуется при своих исследованиях. Начинает разбирать почерк согласно остроумным, холодным методам, которым ее учили. Она играет, таким образом, с собой и Мартином Крюгером: эти методы ведь лишь средство привести себя в то состояние опьянения, в котором она только и делается способной ярко истолковывать почерк. Иногда она часами неотрывно глядит на маленький пюпитр, но в ней не рождается «понимания». Иногда почерк вообще отказывается излучать правду, и ей приходится возвращать образец, не выполнив взятой на себя задачи. Иногда, напротив, образчик почерка действует на нее так сильно, что ей приходится между ним и собой, словно защитную стену, воздвигать свои трезвые, аккуратные методы. Ей душно, она жаждет ясности, но откровение почти всегда сопряжено для нее с мукой. Какое-то странное, запретное ощущение, какая-то смесь стыда и наслаждения овладевает ею, когда личность другого начинает выделяться из почерка, принимать форму, сливаться с ней. Вначале, когда она занималась этими исследованиями в виде спорта, чтобы позабавить веселую компанию, ей доставляло удовольствие глядеть в задумчивые, растерянные лица. Позднее ей стоило усилий заставить себя превращать в деньги эту странную и жуткую способность. Сейчас в ней все притупилось. Она к своим исследованиям относится серьезно. Она никогда не говорит того, в чем не убеждена вполне. Но нередко умалчивает о многом, что замечает. Часто также ей не хватает слов или она уклоняется от нежелательных открытий.
Она сидит в затемненной комнате, напряженным взором уставившись в аппарат. Почти пластично выступают ей навстречу черты почерка Мартина. Еще немного, скоро, вот сейчас, с нарастающей четкостью проявляемой фотопленки встанет перед ней образ писавшего. Она уже чувствует эту напряженную одухотворенность, легкость членов, сухость во рту, обострение всех чувств – все те признаки, которыми дает о себе знать близость понимания. Но она стремительно встает. Раздернуть занавеси! Впустить свет! Она тушит лампочку в аппарате, открывает окно, дышит. Человек в беде, человек в тюремной камере. Человек, с которым она была в горах, на море. Человек, подмигивавший ей во время речи бургомистра в том провинциальном городке. Человек, который лежал с ней в постели, который шептал ей ребяческие и сильные, глупые, добрые, мудрые слова.
Она вынимает письмо из аппарата. Мартин Крюгер – может быть, дурной человек, а может быть, и хороший. Во всяком случае, он ее друг. Она не хочет шпионить за ним. Она отлично отдает себе отчет в том, почему она впуталась в эту историю. Она не хочет оправдываться перед самой собой с помощью умных доводов. Не может быть, чтобы она не справилась с этими гнусными идиотами! Медленно, тщательно разрывает она на мелкие клочки письмо Мартина Крюгера, своего друга.
Она снова видит кипу газет и писем. Она хочет сохранить благоразумие, но не может остановить новый приступ бешенства. Еще шире растягивается ее и без того широкое лицо. Если ее земляки упрямы, как быки, то она вдвое упрямее. Если бы сейчас адвокат доктор Гейер увидел ее, сидящую с опущенной головой, с упорным, гневным взглядом, он не решился бы сказать, кто из этих двух баварцев одержит верх – министр юстиции или эта высокая девушка.
18. Прошения о помиловании
Перед министром юстиции Отто Кленком лежали два прошения о помиловании, вызывавшие интерес широких общественных кругов.
На одной из главных линий баварской железнодорожной сети сошел с рельсов курьерский поезд. При этом были убиты девятнадцать и ранен тридцать один человек. Причины крушения с точностью установить не удалось. Кое-кто усматривал причину в отсутствии предохранительных мероприятий; утверждали, что верхний настил пути был непригоден для новых, тяжелых паровозов. Ввиду того, что в это время между центральным Управлением общегерманских железных дорог и Правлением баварского железнодорожного округа произошел как раз ряд недоразумений, этот случай был крайне неудобен для баварских партикуляристов. Разрешение вопроса, было ли тут преступление или нет, имело, кроме того, значение и с точки зрения гражданской ответственности дороги. Если имело место преступление, дорога не несла материальной ответственности, в противном случае раненые и члены семейств убитых имели право на возмещение убытков. Железнодорожная администрация упорно отрицала свою вину и утверждала, что причиной несчастья является преступное покушение, на что, мол, указывают характер расхождения рельсов и тому подобные моменты.
Таково было положение вещей, когда баварской жандармерии удалось задержать подозрительного субъекта, который, как было доказано, в соответствующее время болтался близ места крушения. Этот человек, двадцати девяти лет от роду, по имени Прокоп Водичка, чех по национальности, у себя на родине уже неоднократно подвергался взысканиям за нарушение общественной тишины и порядка. В течение последних нескольких недель он бродил по Баварии, питаясь картофелем и другими плодами земли, иногда зарабатывая в придорожных кабачках несколько пфеннигов музыкой и пляской, ибо этот неуклюжий парень с бледным, потным лицом был страстным танцором и музыкантом, которого охотно слушали шоферы и кельнерши в кабачках. Случилось как-то ему отпустить одно-другое сочное бунтарское замечание: он-де покажет «большеголовым», устроит такое, о чем заговорят все кругом и о чем они прочтут в газетах. Твердо установлено было во всяком случае, что его еще за час до несчастья видели вблизи места крушения. Кроме того, у него оказались подозрительные инструменты, вполне пригодные для того, чтобы расшатать шпалы и рельсы, что и могло привести к крушению. Подозрительно было и то, что после несчастья он поспешно удалился от места происшествия.
Баварский суд, перед которым ему пришлось предстать, счел во всяком случае его вину доказанной и приговорил его к десяти годам тюремного заключения. Баварская железнодорожная администрация была оправдана в глазах придирчивых северогерманских критиков, ее касса была освобождена от неприятных обязательств.
Но чешский бродяга нашел себе горячего защитника из круга, конечно, все того же доктора Гейера – некоего адвоката Левенмауля. В виновности Водички адвоката заставили усомниться – как он объяснил суду, а затем и на столбцах оппозиционной печати – прежде всего соображения психологического характера. Вначале, указывал адвокат, толстяк Водичка предположил, что его арестовали за какие-то другие преступления. Когда же ему предъявили обвинение в том, что он преднамеренно вызвал крушение, он сперва совершенно оторопел, а затем бурно, от души расхохотался, словно над остроумной шуткой. На фанатика, приносящего себя в жертву во имя идеи, он был мало похож – а какой выгоды он мог ожидать от такого поступка? Защищаясь, он оперировал именно такими здравыми доводами. Ему было совершенно непонятно, как могли его заподозрить; то, что он в злополучное время шатался вблизи места происшествия, было, по его словам, чистой случайностью. Грозиться он действительно грозился, но разве это не было естественно в его положении? Его мясистое неглупое лицо казалось злым, но в то же время носило отпечаток лени и отнюдь не походило на лицо человека, совершающего преступление просто из принципа. Он старался все это объяснить, бодро и не смущаясь, уверенный, что все его такие ясные аргументы должны послужить к его оправданию. Когда же он совершенно случайно узнал из газеты, насколько администрация заинтересована в том, чтобы причиной несчастья оказалось преступление, а не халатность железнодорожных властей, он вдруг с фанатизмом, произведшим на адвоката Левенмауля потрясающее впечатление, бросил всякие попытки защищаться. Если целая страна с шестимиллионным населением, – объяснил он адвокату, – заинтересована в том, чтобы заклеймить его как преступника, то он не так глуп, чтобы одному вступать в борьбу с этими шестью миллионами. С этого момента он довольствовался тем, что с известным лениво-ядовитым остроумием глумился над баварской юстицией. Но именно это поведение обвиняемого и подкрепило убеждение адвоката в том, что бродяга Водичка непричастен к железнодорожной катастрофе.