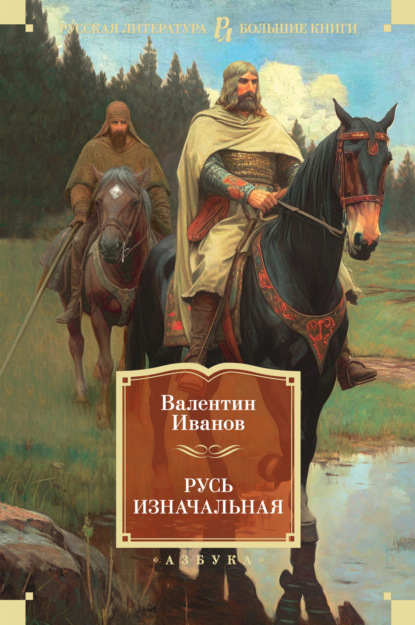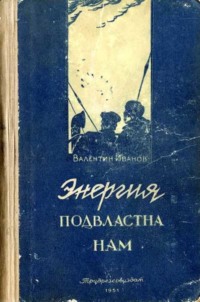Полная версия
Русь Великая
В подтверждение того, что требованья не предъявляются вслепую, были приложены расчеты, извлеченные из налоговых реестров, посылаемых в Канцелярию Палатия канцелярией Наместника, о доходах с торговли, промыслов, ремесел, от виноградников, садов, пахоты, скота, от того и другого для обладателей смешанного имущества. Поликарпос замечал ошибки в расчетах, описки, неправильные итоги. Наместник Таврии живо представил себе Канцелярию, задохнувшуюся под бременем работы, обрушенной на нее этим «базилевсом от Канцелярии». Такой отучит их спать! Что Таврия – меньше ногтя мизинца на теле империи, и то запутались. Они перетряхивают все! Сановники погружаются в думы, извлекая новые откровения – где сколько взять, сколько срезать. Все делается срочно и бесповоротно. Переутомленные писцы и счетчики совершают невероятные ошибки, зато все кипит, империя мчится к великому будущему на бумажных парусах. Да будут благословенны боги папируса, пергамента и туши!
– Вонючий козел! Святейшая каракатица! Обезьяна, гадящая на папирус! – изощрялся Констант Склир. – Как же тут отвечать за безопасность Таврии? Вместо стен, боевых машин, солдат – базилевс приказывает дружить с соседями, ибо мир дешевле войны. Вызнавать замыслы соседей и вносить смуту в их ряды? Попробовал бы сам!
А Поликарпос, разыгравшись, представил в лицах Константина Канцелярского на троне. Таврийский Наместник обладал талантом мима, и образ Константина ему давался, хотя тот был высок ростом и сухощав, а добровольный мим короток и толст.
Мимические способности Поликарпоса когда-то ценились начальниками. Минута забавы между делом весьма освежает, когда передразнивают соперника.
Что же касается империи и базилевсов, то подданные, особенно из удостоенных близости к Власти, привыкли отделять себя и от империи, и от Власти. За раболепие платили по-рабски – насмешкой, издевкой, рассказами, входящими в изустный хронограф, подобно событиям с друзьями юности базилевсов Льва или Василия. Самозащита подавленной личности, самопомощь, которую не следовало осуждать.
Вдвоем, без третьего свидетеля, позволяли себе многое. За исключением такого, что можно проверить, когда собеседник донесет.
Поликарпос издевался, но об ошибках в указах он никому не скажет, это тайна между ним и Канцелярией, неприятная для Канцелярии, опасная для Наместника. Что же касается повиновения, то оно было обеспечено. Таков признак подлинной Власти: ей повинуются даже с ненавистью к ней. У Поликарпоса ненависти не было.
Комес Склир задыхался от злости. Для него Поликарпос был удачником, человеком великолепной карьеры. Сановник пятого ранга Поликарпос зависел от Канцелярии, действие которой постоянно. Сам Склир был поставлен Константином Девятым. Смерть этого базилевса оставила Склира беззащитным: произвол благословляют, когда он дает, и ненавидят, когда он бьет.
Константин Девятый был больше чем другом Склиров. Женой сердца этого базилевса была Склирена, с ней он въехал в Палатий, к ней вернулся из храма Софии после венчания с базилиссой Зоей, то есть с империей.
Его покровительством молодой Констант Склир из задних рядов этой семьи и из кентархов – сотников шагнул в комесы Таврии. Было от чего возгордиться. Прибыв в Херсонес, комес небрежно похлопал по круглому животу Наместника Таврии, своего начальника. В империи была табель о рангах и почитаниях, но империи не было б без Божественного Произвола: в поддержке свыше. По словам умных людей, как Поликарпос, табель о рангах предвидит, но в ее предвиденье нужно уметь вносить поправки.
Менее всего Поликарпос мог оскорбиться дерзостью двадцатипятилетнего комеса. Через год, через два Склир шагнет дальше, храня добрую память о веселом, жирном и скромном Правителе Таврии. Но вместо полета на парусах, вздутых ветром высокого покровительства, корабль судьбы Склира сел на мель. Базилевсом стал Исаак Комнин. Этот, сам полководец, умел ценить военных, за Склира похлопочут. Заболев, Исаак вручил диадему Константину Дуке, и звезда удачи Константа Склира повисла над морем. Еще одна волна разобьет корабль о мель, и слабый огонек утонет совсем.
Сановник, лишенный поддержки свыше, чувствует себя как баран, если предположить, что баран знает свою судьбу быть постоянно стриженным и однажды зарезанным.
А буря над Таврией все крепчала. Волны били Херсонесский мыс, хотя ветер был с востока. Но ведь ветер не один, это стая. Даже тучи метались от вихрей. Как в свалке, когда удары падают со всех сторон.
Глубокие херсонесские бухты-заливы считаются лучшими в мире среди моряков. В любую бурю они безопасны, и рыбаки ловят рыбу. Недаром некогда мегарские греки построили стену в десятки миль длиной для защиты херсонесских бухт и большого куска земли вместе с отличнейшей Бухтой Символов. Последующие обладатели надстраивали стену с ее десятками башен. Она стала бы восьмым чудом света наряду с египетскими пирамидами, Колоссом Родосским и другими, не будь Херсонес на краю этого света в годы составления списка чудес.
– Хотя бы подновить стену…
– Зачем? – спросил Поликарпос.
– А русские? – ответил Склир вопросом.
– Ты гадаешь на Ростислава?! – сказал Поликарпос и прикусил язык: глупо подсказывать. Что ж, пусть Склир выговорится, пусть тешится своим умом.
– Да, да, – подтвердил Склир. – Я убежден. Князь Ростислав хочет забрать себе всю Таврию. Мне рассказывали, он похож на Мстислава, которого здесь боялись. Мстислав ушел на Русь. Ростиславу туда нет дороги. Он не будет воевать со своими. У него, по русским законам, нет права на княжество. Русские из Таврии не пойдут за ним отвоевывать Киев. Но забрать нас – другое. Здешние русские будут с ним. Русский князь в Киеве будет только доволен.
– У нас мир с русскими, – заметил Поликарпос.
– Кто же соблюдает договоры, когда они перестают быть выгодными! Ты удивляешь меня, превосходительнейший!
– Ему невыгодно ссориться с империей. Империя пришлет флот и войско. Русские наживаются торговлей с нами, через нас. Вместо торговли Тмутаракань получит войну, долгую войну. Не могут же они победить империю! – не сдался Поликарпос.
– Не об этом я думаю, – с досадой сказал Склир. – Когда империя заставит князя Ростислава отступить, не будет ни тебя, ни меня. Впрочем, ты-то еще успеешь бежать, свалив все на меня. На что мне победа, если меня нет среди победителей, а? Что-то происходит. За последний месяц к русским убежали сразу три десятка моих солдат. Из лучших.
– Плохие не бегут, кому они нужны, – согласился Поликарпос.
Склир не сказал ничего нового, обо всем этом Наместник думал: естественные мысли, когда граница близка. Более умудренный жизнью, Поликарпос воздерживался от решительных выводов. Действия людей гораздо случайнее, чем принято думать, часто поступки не имеют видимых поводов, разумных оснований. У солдат, у проповедников, у авторов знаменитых комедий все слишком просто: один сначала сделал что-то, чем вызвал ответное действие, из которого последовали дальнейшие события, вылупляясь одно за другим, как цыплята из яиц. Конечно, кое-что можно рассчитать заранее: когда виноградник даст первый сбор, какую прибыль даст продажа, сколько поросят принесут свиньи… Не совсем точно… Без подобных расчетов нельзя что-либо делать. Но это не предвиденье. Нужно остерегаться торопить события, которые не поддаются расчету, безопаснее, когда время ответит. Решительность Склира неприятна. Комес был слишком занят собой, чтобы заметить незнакомого Поликарпоса: без наигранной улыбки, без вниманья к собеседнику лицо Правителя Таврии приобретало неожиданно значительное выраженье.
– Я хочу погостить у князя Ростислава, – сказал Склир.
– Хорошая мысль, я сам охотно поехал бы, – ответил Поликарпос, натянув маску незаметно для себя. – Ты поедешь сушей?
– Зачем? – удивился Склир. – Я поплыву. Как только стихнет буря.
– Летний дождь отмоет небо за три дня, – сказал Поликарпос. Он думал, что не сказал Склиру пригласить князя погостить в Херсонесе. Почему? И почему вообразилось, будто Склир может пуститься верхом через степь, под дождем?
Судьба, только Судьба. Болтовня о предвидении – шум и лесть для угощенья вышестоящих. За последнее время милая Таврия стала какой-то неуютной. Поликарпосу не хотелось вспоминать, почему случилось такое, и он сказал Склиру:
– Знаешь, превосходительнейший, епископ Евтихий, предшественник нынешнего нашего святителя, который скончался лет за пять до твоего приезда, любил говорить: Бог должен был воплотиться в человеке, иначе людям пришлось бы совсем пропасть. Ибо и Богу нельзя было б понять свое творенье, и люди не могли бы понять Бога.
Не найдя, что ответить, комес Склир простился с Наместником. Поликарпос подумал: кто потянул меня за язык лезть в богословие! Этот Склир невыносим. Я не могу выдержать его и часа, чтоб не начать болтать глупости…
– Звезда комеса надувает наши паруса, – сказал кормчий. Он не льстил: иные даже вполне порядочные люди совершенно бескорыстно привязаны к пышным выражениям. Нечто вроде несчастной любви: позора нет, но для посторонних смешно.
Побушевав вволю, восточный ветер уступил место западному, и галера несла полный парус. Легкий корабль обгонял мелкие волны, поднятые ветром. Еще не утихшая крупная зыбь, катясь с юго-востока, поднимала галеру, опускала, и фонтаны брызг взлетали по сторонам острого бивня.
– Проходим Алустон[4], – сказал кормчий кратко. Он был немного обижен невниманьем комеса и решил, по евангельскому выраженью, не метать бисера перед свиньями.
Невидимая морская дорога была проложена на Сурожский мыс, и галера шла в пятнадцати-двадцати русских верстах от берега. Таврия стояла на севере сплошной стеной, с неглубокими седлами перевалов в степь, зеленая, но в переливах оттенков от весенней свежести цвета до черноватой бирюзы, с серыми, черными, сизыми лысинами скал. Зыбь падала на берега Таврии пенным прибоем, но расстояние скрывало подошву. Неподвижная Таврия стояла на неподвижном же пьедестале синей воды.
– Какое зрелище! Красивое, красивейшее! Радость глаз! – восторгался спутник комеса Склира, молодой кентарх. Человек хорошо грамотный, на виду, он был послан в Таврию недавно, прямо из Палатия, где служил в дворцовой охране. Почему? За что? Он сам не знал, и комес верил ему. Оговор. Либо неосторожное слово, невинное для произнесшего. Поликарпос сказал бы, вернее, подумал: власть подозрительна, ее решения случайны.
– Красивое, некрасивое, – возразил комес, – пустые слова. Их употребляют поэты в трех случаях: когда им нечего сказать, когда им хочется нечто сказать, но они прячутся под аллегорией, или когда, как ты сейчас, они прибегают к чужим словам. Все эти леса, источники, рощи, проливы, реки, дворцы, розы и прочее прекрасны воистину, если ты обладаешь ими или надеешься обладать. Если же обладанье невозможно, плюнь на них, огадь, как сможешь, ибо они отвратительны. Загляни к себе в душу, и ты согласишься со мной.
Кентарх сделал протестующий жест.
– Хорошо, хорошо, – кивнул комес, – не будем спорить, прошу тебя.
Склир был лет на семь-восемь старше своего подчиненного, но казался себе тонким знатоком жизни и, если не терял самообладания, говорил, нет, беседовал ровным, расслабленным голосом, несколько в нос. Он продолжал:
– По возвращеньи тебе пора будет взглянуть, да, взглянуть и проверить наши посты в горах. Ты убедишься – твои красоты на самом деле не больше чем крепостная стена. Тебе придется побывать и там, и там, и там. – Комес вяло указывал вдаль. – Ты исцарапаешься в колючках, собьешь ноги на камнях, будешь падать, обдерешь кожу на коленях. По ночам тебя будут есть москиты, ты опухнешь от их укусов. Днем тебе досадят мухи, лишив тебя покоя. От жары ты обопьешься холодной водой и расстроишь себе желудок. Поверь, после этого ты променяешь красоты божьей постройки на обыкновенную крепостную стену. Такую, по-твоему, уродливую, со скучным ровным ходом поверху, с прохладными башнями. Правда, там не пахнет розами. Ленивые солдаты не утруждают себя дальними прогулками. Зато нет москитов, и утром друзья действительно узнают тебя. Не притворяясь из состраданья, что узнают тебя только по голосу.
– Зато там у меня будут минуты радости, минуты наслажденья великолепными видами, – не соглашался кентарх.
– Друг мой, цени в сей жизни не минуты, а дни, – поучительно заметил комес, – только тогда пребудут с тобой благо и долголетие. Да, о долголетии. В твоих красотах тебе будет жарко вдвойне. Ходить там трудно, да придется еще таскать панцирь и каску.
– Почему?
– Потому что до сих пор ты живешь будто не в Таврии, а в садах Палатия, – язвительно ответил комес. – В горной Таврии легко получить стрелу между ребер.
– Я здесь уже несколько месяцев и не слыхал о подобном, – возразил кентарх.
– Во-первых, ты еще не бывал дальше Херсонеса и Бухты Символов. Во-вторых, ты много расспрашиваешь. Тебе рассказали об удивительных рыбах, которых, кажется, никто не видал. О чудовище, которое иногда нежится на песчаных отмелях, что на северо-западном берегу Таврии. У него тело, как у гигантской черепахи, лапы с когтями величиною с кинжал, шея толщиной в торс человека и длиной в пять локтей…
– И голова, как у змеи, размером с хороший бочонок. О чудовище я слышал от многих, – сказал кентарх.
– Верно, верно, – согласился комес. – Ты узнал и о звере, который приплыл в Бухту Символов лет двадцать тому назад. Он был длиной с нашу галеру, но гораздо толще, шире. И тому подобное. Все это события чрезвычайные. Они интересны твоим собеседникам, поэтому они и болтают о них. А об обычном люди не говорят, хронографы не пишут. Друг мой, кому это нужно, общеизвестное? Ты слышишь о чужой семейной жизни тогда, когда там нечто случилось. Обычное так же скучно, как проповедь или надписи на могилах добродетельных людей. В лесах нашей Таврии стрела – это будни.
– Кто же убивает в дни мира? – удивился кентарх.
– Дни мира! Что есть мир? – пародируя ритора, воскликнул комес. – Твои горные красоты удобны, чтобы прятаться от закона. Есть также совершенно мирные подданные, которым не нравятся солдаты. Солдаты пугают дичь, иной раз отнимут добычу у охотника. Когда он везет дичь с гор, ему не миновать одной из крепостей, которые ты скоро поедешь посмотреть. Около крепостей появляются наши подданные или полуподданные из степной Таврии. Они нас не любят без всяких причин. Для них дичь – это мы.
– Но это бунтовщики!
– Будь у меня хотя бы одна турма, я подбрил бы горы и закрыл проходы, – сказал комес, теряя небрежный тон.
Вспомнился последний приказ базилевса Константина Дуки о сокращении расходов на стены, на содержание солдат, и комес приказал подать еду и питье. Ему больше не хотелось шутить над кентархом.
Море было оживленным. Рыбацкие суда и челны, торговые корабли разного вида, размера. На пышном, богатом берегу южной Таврии дорогой служило море, и каждый второй мужчина называл себя моряком. Буря закрыла дорогу, и сегодня все спешили наверстать свое. У каждого были свои тропы. Рыбаки выходили на известные места, где, по многолетним приметам, сегодня могла быть рыба, завтра она уйдет на новое пастбище. Грузовые суда соображались с кратчайшим расстоянием, на море оно мерится не милями, а удобством ветра, течений. Местные суда ходили ближе к берегу, влево от пути херсонесской галеры. Правее галеры, в открытом море, прорезают пути из империи в Сурожское море и обратно. Сегодня там, с юга, не поднималось ни одного паруса. Из-за бури. Море только начинало успокаиваться, корабли с Босфора, из Синопа, из Трапезунда были еще далеко. Зато отстаивавшиеся в Сурожском проливе спешили уйти, принимая западный ветер косыми парусами и помогая себе веслами. Таких с галеры можно было сосчитать шесть. Два из них уже скатывались с выпуклости моря на юг, оставив взору мачты.
К вечеру галера поравнялась с Сурожским мысом, и с кормы стал виден огонь маяка, зажегшийся на конце мыса. Ветер упал. Гребцы охотно сели на весла, они спали весь день по так называемому праву ветра.
Медленно-медленно, как кажется ночью, Сурожский маяк уплывал за корму.
Проложив путь по звездам, кормчий поставил за себя помощника и лег спать рядом с кормилом руля.
Гребцы мерно работали, привычно дремля под ритмичный, тихий счет старшего:
– A-а! А-ха!
По левой руке появился огонек, не ярче отблеска света в кошачьем глазу. Сообразив время по звездам, помощник кормчего узнал, что галера прошла мимо узости Таврии. Имперские владения кончились. Маяк горел на Соленом мысу. Им завершается глубокая впадина, которой Русское море входит в Таврию. С севера подобной впадиной врезалось Сурожское море. Русские считают в узком месте двадцать три версты от моря до моря. Это их граница с империей.
Соленомысский маяк утонул в темноте, и помощник кормчего повернул галеру на пол-оборота к северу. Капли с весел падали в прошлое.
Вот впереди показался такой же кошачий глаз – маяк на мысу у входа в Сурожский пролив. Здесь поворачивают вправо, чтобы не врезаться в берег.
Входной маяк Сурожского пролива встал на левой руке, и помощник разбудил кормчего. Небо чуть-чуть бледнело.
Ночь за рулем утомляет вдвое больше, чем день. День на море воспет поэтами, благословлена ими и ночь – начало ее до часа, когда все, и поэты, отправляются спать.
Настоящая ночь, когда все спят, кроме тебя, постигнута в молчании, награждена молчаньем – оно есть настоящая слава.
Человек уменьшается, море делается грандиознее неба, и бездна живет своей жизнью, и темное в темном становится сильнее, и не знаешь, кто там плеснул – рыба или чудовище со змеиной головой. Дневные насмешники ночью молятся, если умеют. И гребцы гребут, гребут, и кормчий ведет галеру, не уклоняясь с дороги. Может быть, потому, что море не лес, что нельзя, бросив корабль, в страхе залезть на дерево? Или потому, что нужно жить, кормить себя и своих? Может быть… Море – как жизнь: никуда не уйдешь.
Проще: в море, что в жизни, делай, что можешь. А в длинные часы морской ночи человека навещают мысли, в которых днем себе самому признается только храбрый. Да и думает о подобном он больше других. У него ум поживее, воображенье щедрей – на то он и храбрый. Другой, потупее, бывает смел не от храбрости – от глупости.
Оставив тяжесть гор на юго-западе, Таврия стекла на восток волнами хрящеватой, сухой холмистой земли и круто оборвалась водой и над водой.
С моря видна глубокая бухта или залив. Ширина у входа по русскому счету – верст пятнадцать.
Правый и левый берега глядят близнецами. Такие же отвесные кручи с узеньким, как ножка у вазы, бережком внизу. Тот же цвет, то же сложение: сверху мощным, многосаженным пластом земли, черновато-серой, с морщинами, как лысая шкура; снизу – прослойками одинаковых раковин. В своей глубине залив закрывается берегами наглухо. Мысы и повороты замыкают для глаз и пролив, и само Сурожское горло.
Геродот рассказывает о случае, который свел жителей восточного берега, азиатов, с жителями западного, европейцами. Лань, спасаясь от юных охотников, бросилась в воду с восточного берега. Преследователи тоже пустились вплавь и вышли на таврийском берегу. К северу от Тмутаракани и Корчева есть место, где подобное могло случиться. Восточный берег вытягивается тонкой, сужающейся стрелой, западный берег тянется встречь. Тому, кого сюда загонят, нет другого спасенья, как в воду. Здесь, в Сурожском горле, от суши до суши всего версты три.
Геродот побывал в Таврии и видел Босфор Киммерийский за пятнадцать столетий до дня, когда херсонесская галера с комесом Склиром входила из моря в пролив. Итак, не будь быстроногой испуганной лани и охотничьей пылкости, Азия и Европа, чтобы познать друг друга через Сурожский пролив, ждали бы еще сколько-то веков?
В Геродотовы годы рассказ о лани и охотниках был тем, что мы называем легендой. Как понимали ее и местные жители, и приезжий писатель, нам неизвестно.
Книжники упрямы и простодушны, им, листая книги вдали от мест и событий, легко справляться с любыми преданьями: написано – и толкуй буква в букву. По характеру начертания книжник определит время, по манере выраженья часто укажет и автора или обнаружит подделку. Что же касается смысла, то лани быстроноги, юность пылка и до нашего дня, на охоте – тем более. Иное приходит на ум путешественнику. Не только в узости, но и в самых широких местах Сурожского пролива хорошо виден противоположный берег, строенья, деревья. Ночью различим даже слабый огонек. В тихую погоду мальчишка одолеет пролив на двух связанных бревнах.
В Таврийской степи водятся серо-желтые ужи-полозы. Иногда утром, после тихой ночи, на песчаном бережку находят след – отпечаток толстого тела, ушедшего в воду. Это выходной след полоза. Входного следа нет, сколько ни ищи: полоз ушел на тот берег. Наскучив давить мышей, сусликов, зайцев, полоз уплыл на охоту давить лягушек в кубанские плавни. Он плыл всю ночь, легко держа над водой плоскую голову, не видя берегов и соображая дорогу по звездам. Или – своим особым способом по опыту тысячелетий.
Сколько бы ни минуло тысячелетий, белое оставалось белым, а черное – черным, хотя слова и словесные образы прошлых дней изменялись, как суждено измениться нынешним, пока люди способны жить. Новая мысль наряжается в старые слова, старые мысли одеваются новыми.
Лань? Охота? Увлекшиеся юноши? Что разумел затейливый для нас, понятный для современников рассказчик? Почему историк записал будто бы нелепость, недостойную зрелого разума? Есть ответ только на последний вопрос: для тогдашних читателей нелепости не было, они понимали рассказ.
Остережемся и мы понимать буквально надписи на древних камнях. Наш ум любит загадки, любит игру изменчивых символов. Унижать умерших, возноситься над якобы глупыми предками так же неумно и так же опасно, как презирать современников. Как бы и наши дела не показались детски наивными скорохвату-потомку, который, как мы, не потрудится сообразить, что начальный, постоянно трезвый смысл неминуемо воплощается в изменчивые слова, в их живые, то есть меняющиеся, сочетанья. Слова кипят, пенятся, как морские волны.
Издали на море все волны одинаковы. Вблизи – нет ни одной такой же, как предыдущая, хотя их вызывает единая сила, не изменившаяся как будто за десятки столетий. Вдобавок – волны никуда не бегут, вода остается на месте, море обманывает, выдавая изгибы за бег.
Солнце висело красным шаром во мгле испарений Сурожского моря и от земли, увлажненной недавними ливнями. Туман закрывал дали пролива, и видимость не превышала пяти верст. Над морем было ясно. Русский маяк на левом, таврическом, мысу виделся кучей камней на холме.
Галера медленно двигалась, кормчий взял ближе к правому берегу. Здесь глубины были достаточны и для тяжелых кораблей, кинкирем с пятью ярусами весел, которых уже давно не строили. Но кое-где со дна поднимались скалы. Отмели перемещались, завися от течений. Течения изменялись по временам года и после сильных дождей, когда увеличивался сток воды из Сурожского моря. После бурь на Русском море отмели перестраивались от глубокого волненья.
Поверхность все та же, внутри же много меняется, как в человеке. Чтоб не посадить корабль на мель, кормчий не смеет доверяться вчерашнему знанию.
– Смотри туда, смотри, прошу тебя, превосходительный, – позвал кормчий Склира, указывая на правый берег.
Склир прищурился, прикрывая ладонью глаза.
– Что это? Ползет какая-то громада! – Он едва не сказал – чудовище.
– Обвал, – объяснил кормчий. – Волны грызут берег снизу, но крутизна держится, висит, пока ее не размочит дождь.
В подтверждение его слов низкая волна, морщина на гладкой воде, пришла от правого берега и чуть-чуть качнула галеру.
Солнце по-утреннему быстро шло вверх. Туманная мгла редела, освобождая пролив. Его оживляли десятки челнов. Во многих местах от берега бежали, как дорожные вехи, тонкие шесты. На них удерживались ставные неводы. Стенка сети шла почти от сухого берега в глубину, завершаясь ловушкой-поворотом. Нехитрая для земного зверя, такая западня была не по плечу скудоумной рыбе.
Перебирая сеть из лодки, владельцы неводов брали ночную добычу. Ценную рыбу бросали в челн черпаком или острогой, ненужную пускали на волю. Пусть живет. Неугодная человеку, пригодится в море. В нем, в море, как и на земле, один охотится на другого. Человеку положено брать нужное ему, а зря портить не положено. Нарушив порядок, сам от того пострадаешь.
Над ловцами летали крылатые рыболовы, силясь схватить рыбешку чуть не из рук. На каждом неводном шесте, куда еще не подтянул свой челн хозяин, сидели рыболовы покрупнее в ожидании людей, чтобы попользоваться своей частью.
Кормчий направил галеру к челну, который неподвижно стоял на якоре.
– Э-гей! – позвал Склир по-русски. – Князь ваш дома ли?
Из челна не ответили. Там кто-то взялся за весла, другой поднял якорь. Третий, крупный мужчина с окладистой бородой, встал и взялся рукой за борт галеры, когда челн сблизился.