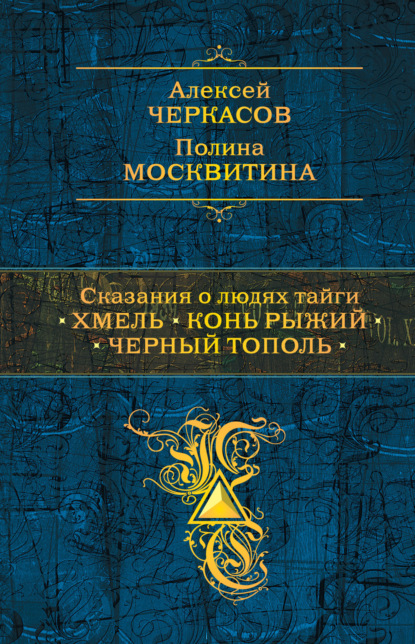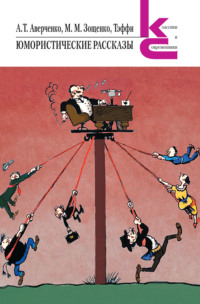Полная версия
Собрание избранных рассказов и повестей в одном томе
Тут стали меня, безусловно, про революцию вспрашивать. Что к чему.
– Я, – говорю, – человек не освещенный. Но произошла, – говорю, – Февральская революция. Это верно. И низвержение царя с царицей. Что же в дальнейшем – опять, повторяю, не освещен. Однако произойдет отсюда людям немалая, – думаю, – выгода.
Только встает вдруг один, запомнил, из кучеров. Злой мужик. Так и язвит меня.
– Ладно, – говорит, – Февральская революция. Пусть. А какая такая революция? Наш уезд, если хочешь, весь не освещен. Что к чему и кого бить, не показано. Это, – говорит, – допустимо? И какая такая выгода? Ты мне скажи, какая такая выгода? Капитал?
– Может, – говорю, – и капитал, да только нет, зачем капитал? Не иначе как землишкой разживетесь.
– А на кой мне, – ярится, – твоя землишка, если я буду из кучеров? А?
– Не знаю, – говорю, – не освещен. И мое дело – сторона.
А он говорит:
– Недаром, – говорит, – мужички беспокоятся – что к чему… Старосту Ивана Костыля побили ни за про что, ну и князь, поскольку он помещик, – безусловно, его кончат.
Так вот поговорили мы славным образом до вечера, а вечером ваше сиятельство меня кличут.
Усадили меня, запомнил, в кресло, а сами произносят мне такие слова:
– Я, – говорит, – тебе, Назар, по-прямому: тени я не люблю наводить, так и так, мужички не сегодня завтра пойдут жечь имение, так нужно хоть малехонько спасти. Ты, мол, очень верный человек, мне же, – говорит, – не на кого положиться… Спаси, – говорит, – для ради бога положение.
Берет тут меня за ручки и водит по комнатам.
– Смотри, – говорит, – тут саксонское серебро черненое, и драгоценный горный хрусталь, и всякие, – говорит, – золотые излишества. Вот, – говорит, – какое богатое добрище, а все пойдет, безусловно, прахом и к чертовой бабушке.
А сам шкаф откроет – загорюется.
– Да уж, – говорю, – ваше сиятельство, положение ваше небезопасное.
А он:
– Знаю, – говорит, – что небезопасное. И поэтому сослужи, – говорит, – милый Назар, предпоследнюю службу: бери, – говорит, – лопату и изрой ты мне землю в гусином сарае. Ночью, – говорит, – мы схороним что можно и утопчем ножками.
– Что ж, – отвечаю, – ваше сиятельство, я хоть человек и не освещенный, это верно, а мужицкой жизнью жить не согласен. И хоть в иностранных державах я не бывал, но знаю культуру через моего задушевного приятеля, гвардейского рядового пехотного полка. Утин его фамилия. Я, – говорю, – безусловно, согласен на это дело, потому, – говорю, – если саксонское черненое серебро, то по иностранной культуре совершенно невозможно его портить. И через это я соглашаюсь на ваше культурное предложение – схоронить эти ценности.
А сам тут хитро перевожу дело на исторические вещички.
Испытываю, что за есть такой Пипин Короткий.
Тут и высказал ваше сиятельство всю свою высокую образованность.
Хорошо-с…
К ночи, скажем, уснула наипоследняя собака… Беру лопату – и в гусиный сарай.
Место ощупал. Рою.
И только берет меня будто жуть какая. Всякая то есть дрянь и невидаль в воспоминание лезет.
Копну, откину землишку – потею, и рука дрожит. А умершие покойники так и представляются, так и представляются…
Рыли, помню, на австрийском фронте окопчики и мертвое австрийское тело нашли…
И зрим: когти у покойника предлинные-длинные, больше пальца. Ох, думаем, значит, растут они в земле после смерти. И такая на нас, как сказать, жуть напала – смотреть больно. А один гвардеец дерг да дерг за ножку австрийское мертвое тело… Хороший, – говорит, – заграничный сапог, не иначе как австрийский… Любуется и примеряет в мыслях и опять дерг да дерг, а ножка в руке и осталась.
Да-с. Вот такая-то гнусь мертвая лезет в голову, но копаю самосильно, принуждаюсь. Только вдруг как зашуршит чтой-то в углу. Тут я и присел.
Смотрю: ваше сиятельство с фонарчиком лезет – беспокоится.
– Ай, – говорит, – ты умер, Назар, что долго? Берем, – говорит, – сундучки поскореича – и делу конец.
Принесли мы, запомнил, десять претяжеленных-тяжелых сундучков, землей закрыли и умяли ножками.
К утру выносит мне ваше сиятельство двадцать пять целковеньких, любуется мной и за ручку жмет.
– Вот, – говорит, – тут письмишко к молодому вашему сиятельству. Рассказан тут план местонахождения вклада. Поклонись, – говорит, – ему – сыну и передай родительское благословение.
Оба тут мы полюбовались друг другом и разошлись. Домой я поехал… Да тут опять речь никакая. Только прожил дома почти что два месяца и возвращаюсь в полк. Узнаю: произошли, – говорят, – новые революционные события, отменили воинскую честь и всех офицеров отказали вон. Вспрашиваю: где ж такое ваше сиятельство?
– Уехал, – говорят, – а куда – неизвестно. Кажется, что к старому папаше – в его имение.
Хорошо-с…
Штаб полка.
Являюсь по уставу внутренней службы. Так и так, рапортую, из несрочного отпуска.
А командир, по выбору, прапорщик Лапушкин – бяк меня по уху.
– Ах ты, – говорит, – княжий холуй, снимай, – говорит, – собачье мясо, воинские погоны!
«Здорово, – думаю, – бьется прапорщик Лапушкин, сволочь такая…»
– Ты, – говорю, – по морде не бейся. Погоны снять – сниму, а драться я не согласен.
Хорошо-с.
Дали мне, безусловно, вольные документы по чистой, и…
– Катись, – говорят, – колбаской.
А денег у меня, запомнил, ничего не осталось, только рубль дареный, зашитый в ватном жилете.
«Пойду, – думаю, – в город Минск, разживусь, а там поищу вашего сиятельства. И осчастливит он меня обещанным капиталом».
Только иду нешибко лесом, слышу – кличет ктой-то.
Смотрю – посадские. Босые босячки. Крохоборы.
– Куда, вспрашивают, идешь-катишься, военный мужичок?
Отвечаю смиренномудро:
– Качусь, – говорю, – в город Минск по личной своей потребности.
– Тек-с, – говорят, – а что у тебя, скажи, пожалуйста, в вещевом мешочке?
– Так, – отвечаю, – кое-какое свое барахлишко.
– Ох, – говорят, – врешь, худой мужик!
– Нету, воистинная моя правда.
– Ну так объясни, если на то пошло, полностью свое барахлишко.
– Вот, объясняю, теплые портянки для зимы, вот запасная блюза гимнастеркой, штаны кой-какие…
– А есть ли, – вспрашивают, – деньги?
– Нет, – говорю, – извините худого мужика, денег не припас.
Только один рыжий такой крохобор, конопатый:
– Чего, – говорит, – агитировать: становись (это мне то есть), становись, примерно, вон к той березе, тут мы в тебя и штрельнем.
Только смотрю – нет, не шутит. Очень я забеспокоился смертельно, дух у меня упал, но отвечаю негордо:
– Зачем, – отвечаю, – относишься с такими словами? Я, – говорю, – на это совершенно даже не согласен.
– А мы, – говорят, – твоего согласия не спросим, нам, – говорят, – на твое несогласие ровно даже начихать. Становись, и все тут.
– Ну хорошо, – говорю, – а есть ли вам от казни какая корысть?
– Нет, корысти, – говорят, – нету, но мы, – говорят, – для-ради молодечества казним, дух внутренний поддержать.
Одолел тут меня ужас смертный, а жизнь прельщает наслаждением. И совершил я уголовное преступление.
– Убиться я, – говорю, – не согласен, но только послушайте меня, задушевные босячки: имею я, безусловно, при себе тайну и план местонахождения клада вашего сиятельства.
И привожу им письмо.
Только читают, безусловно: гусиный сарай… саксонское серебро… план местонахождения.
Тут я оправился; путь, – думаю, – не близкий, дам теку.
Хорошо-с.
А босячки:
– Веди, – говорят, – нас, если на то пошло, к плану местонахождения вклада. Это, – говорят, – тысячное даже дело. Спасибо, что мы тебя не казнили.
Очень мы долго шли, две губернии, может, шли, где ползком, где леском, но только пришли в княжескую виллу «Забава». А только теку нельзя было дать – на ночь вязали руки и ноги.
Пришли.
«Ну, – думаю, – быть беде – уголовное преступление против вашего сиятельства».
Только узнаем: до смерти убит старый князь ваше сиятельство, а прелестная полячка Виктория Казимировна уволена вон из имения. А молодой князь приезжал сюда на недельку и успел смыться в неизвестном направлении.
А сейчас в имении заседает, дескать, комиссия.
Хорошо-с.
Разжились инструментом и к ночи пошли на княжий двор.
Показываю босячкам:
– Вот, – говорю, – двор вашего сиятельства, вот коровий хлев, вот пристроечки всякие, а вот и…
Только смотрю – нету гусиного сарая.
Будто должен где-то тут существовать, а нету.
Фу ты, – думаю, – что за новости.
Идем обратно.
– Вот, – говорю, – двор вашего сиятельства, вот хлев коровий…
Нету гусиного сарая. Прямо-таки нету гусиного сарая. Обижаться стали босячки. А я аж весь двор объелозил на брюхе и смотрю, как бы уволиться. Да за мной босячки – пугаются, что, дескать, сбегу.
Пал я тут на колени:
– Извините, – говорю, – худого мужика, водит нас незримая сила. Не могу признать местонахождения.
Стали тут меня бить босячки инструментом по животу и по внутренностям. И поднял я крик очень ужасный.
Хорошо-с.
Сбежались крестьяне и комиссия.
Выяснилось: вклад вашего сиятельства, а где – неизвестно.
Стал я Богом божиться – не знаю, мол, что к чему, приказано, дескать, передать письмишко, а я не причинен.
Пока крестьяне рассуждали, что к чему, и солнце встало.
Только смотрю: светло, и, безусловно, нет гусиного сарая. Вижу: ктой-то разорил на слом гусиный сарай. «Ну, – думаю, – тайна сохранилась. Теперь помалкивай, Назар Ильич господин Синебрюхов».
А очень тут разгорелась комиссия. И какой-то, запомнил, советский комиссар так и орет горлом, так и прет на меня.
– Вот, – говорит, – взгляните на барского холуя. Уже довольно давно совершилась революция, а он все еще сохраняет свои чувства и намерения и не желает показать, где есть дворянское добро. Вот как сильно его князья одурачили!
Я говорю:
– Может быть, тут нету никакого дурачества. А может быть, я с этой семьей находился прямо на одной точке. И был им как член фамилии.
Один из комиссии говорит:
– Если ты с их фамилии происходишь, то мы тебе покажем кузькину мать. Тогда становись к сараю – мы тебя сейчас пошлем путешествовать на небо.
Я говорю:
– К сараю я встать не согласен. А вы, – говорю, – неправильно понимаете мои мысли. Не то чтобы я в их семействе родился, а просто, – говорю, – я у них иногда бывал. А что до их вещичек, то согласно плана ищите по всем сараям.
Бросились, конечно, все по сараям, а в этот самый момент мои босячки сгрудились – сиг через забор, и теку.
Вот народ копает в сараях – свист идет, но, безусловно, ничего нету.
Вдруг один из комиссии, наиболее такой въедливый, говорит:
– Тут еще у них был гусиный сарай. Надо будет порыться на этом месте.
У меня от этих слов прямо дух занялся.
«Ну, – думаю, – нашли. Князь, – думаю, – мне теперича голову отвертит».
Стали они рыть на месте гусиного сарая. И вдруг мы видим, что там тоже нет ничего. Что такое!
«Неужели, – думаю, – князь ваше сиятельство, этот старый трепач, переменил местонахождение вклада?» Это меня прямо даже как-то оскорбило.
Тут я сам собственноручно прошелся с лопатой по всем местам. Да, вижу, ничего нету. «Наверное, впрочем, – думаю, – заезжал сюда молодой князь ваше сиятельство, и, наверное, он подбил старичка зарыть в другом месте, а может быть, и вывез все в город. Вот так номер».
Тут один из комиссии мне говорит:
– Ты нарочно тень наводишь. Хочешь сохранить барское добро.
Я говорю:
– Раньше я, может, хотел сохранить, но теперича нет, поскольку со мной допущено недоверие со стороны этой великосветской фамилии.
Но они не стали больше со мной церемониться, связали мне руки, хватили нешибко по личности и отвезли в тюрьму. А после год мурыжили на общественных работах за сокрытие дворянских ценностей.
Вот какая великосветская история произошла со мной. И через нее моя жизнь пошла в разные стороны, и через нее я докатился до тюрьмы и сумы и много путешествовал.
Виктория КазимировнаВ Америке я не бывал и о ней, прямо скажу, ничего не знаю.
А вот из иностранных держав про Польшу знаю. И даже могу ее разоблачить.
В германскую войну я три года ходил по польской земле… И, конечно, изучил эту нацию. <…>
Нет, это уже очень чересчур гордая нация. И среди них женское население особенно задается.
Но между тем однажды я встретил одну польскую паненку и ее полюбил, и через это такая у меня к Польше симпатия пошла – лучше, – думаю, – этого народа и не бывает.
И нашло на меня, прямо скажу, такое чудо, такой туман: что она, прелестная красавица, ни скажет, то я и делаю.
Убить человека я, скажем, не согласен – рука дрогнет, а тут убил, и другого, престарелого мельника, убил. Хоть и не своей рукой, да только путем своей личной хитрости.
А сам, подумать грустно, ходил легкомысленно женишком прямо около нее, бороденку даже подстриг и подлую ее ручку целовал.
Было такое польское местечко Крево. На одном конце – пригорок, немцы окопались. На другом – обратно пригорок, мы окопчики взрыли, и польское это местечко Крево осталось лежать между окопчиками в овраге.
Польские жители, конечно, уволились, а которые хозяева и, как бы сказать, добришко кому покинуть грустно – остались. И как они так существовали – подумать странно.
Пуля так и свистит, так и свистит над ними, а они – ничего, живут себе прежней жизнью.
Ходили мы к ним в гости.
Бывало, в разведку либо в секрет, а уж по дороге, безусловно, в польскую халупу.
К мельнику всё больше ходили.
Мельник такой существовал престарелый. Баба его сказывала: имеет, – говорит, – он деньжонки капиталом, да только не говорит где. Будто обещал сказать перед смертью, а пока чего-то пугается и скрывает.
А мельник, это точно, скрывал свои деньжонки.
В задушевной беседе он мне все и высказал. Высказал, что желает перед смертью пожить в полное семейное удовольствие.
– Пусть, – говорит, – они меня такого-то малехонько побалуют, а то скажи им, где деньжонки, – оберут как липку и бросят за свои любезные, даром что свои родные родственники.
Мельника этого я понимал и ему сочувствовал. Да только какое уж там, сочувствовал, семейное удовольствие, если болезнь у него жаба и ноготь, приметил я, синий.
Хорошо-с. Баловали они старичка.
Старик кобенится и финтит, а они так во взор его и смотрят, так перед ним и трепещут, пугаются, что не скажет про деньги.
А была у мельника семья: баба его престарелая да неродная дочка, прелестная паненка Виктория Казимировна.
Я вот рассказывал великосветскую историю про клад князя вашего сиятельства – все воистинная есть правда: и босячки-крохоборы, и что били меня инструментом, да только не было в тот раз прекрасной полячки Виктории Казимировны. Была тогда другая особа, тоже, может быть, полячка – супруга молодого князя вашего сиятельства. А что касается Виктории Казимировны, то быть ее тогда, конечно, не могло. Была она в другой раз и по другому делу… Была она, Виктория Казимировна, дочка престарелого мельника.
И как это вышло? С первого даже дня завязались у нас прелестные отношения… Только, помню, пришли раз к мельнику. Сидим – хихикаем, а Виктория Казимировна все, замечаю, ко мне ластится: то, знаете ли, плечиком, то ножкой.
– Фу ты, – восхищаюсь, – какой интересный случай.
А сам все же пока остерегаюсь, отхожу от нее да отмалчиваюсь.
Только попозже берет она меня за руку, любуется мной.
– Я, – говорит, – господин Синебрюхов, могу даже вас полюбить (так и сказала). И уже имею что-то в груди. Только, – говорит, – есть у меня до вас просьбишка: спасите, – говорит, – меня для ради бога. Желаю, – говорит, – уйти из дому в город Минск или еще в какой-нибудь там в польский город, потому что – сами видите – погибаю я здесь курам на смех. Отец мой, престарелый мельник, имеет капитал, так нужно выпытать, где хранит его. Нужно мне разжиться деньгами. Я, – говорит, – против отца не злоупотребляю, но не сегодня завтра он, безусловно, помрет, болезнь у него – жаба, и пугаюсь я, что про капитал не скажет.
Начал я тут удивляться, а она прямо-таки всхлипывает, смотрит в мои очи, любуется.
– Ах, – говорит, – Назар Ильич господин Синебрюхов, вы – самый здесь развитой и прелестный человек, и как-нибудь вы это сделаете.
Хорошо-с. Придумал я такую хитрость: скажу старичку, дескать, выселяют всех из местечка Крево… Он, безусловно, вынет свое добро… Тут мы и заставим его поделить.
Прихожу назавтра к ним, сам, знаете ли, бороденку подстриг, блюзу-гимнастерку новую надел, являюсь прямо-таки парадным женишком.
– Сейчас, – говорю, – Викторичка, все будет исполнено.
Подхожу демонстративно к мельнику.
– Так и так, – говорю, – теперь, – говорю, – вам, старичок, каюк-компания – выйдет завтра приказ: по случаю военных действий выселить всех жителей из местечка Крево.
Ох как содрогнется тут мой мельник, как вскинется на постельке… И сам как был в нижних подштанниках – шасть за дверь и слова никому не молвил. Вышел он на двор, и я тихонько следом. А дело ночное было. Луна. Каждая даже травинка виднеется. И идет он весь в белом, будто шкелет какой, а я за сарайчиком прячусь.
А немец, помню, чтой-то тогда постреливал. Только прошел он, старичок, немного, да вдруг как ойкнет. Ойкнет и за грудь скорей. Смотрю – и кровь по белому каплет.
«Ну, – думаю, – произошла беда – пуля». Повернулся он, – смотрю, – назад, руки опустил и к дому.
Да только, – смотрю, – пошел он как-то жутко. Ноги не гнет, сам весь в неподвижности, а поступь грузная.
Забежал я к нему, сам пугаюсь, хвать да хвать его за руку, а рука уж холодеет, и смотрю: в нем дыханья нет – покойник. И незримой силой взошел он в дом, веки у него закрыты, а как на пол ступит, так пол гремит – земля к себе покойника требует.
Закричали тут в доме, раздались перед мертвецом, а он дошел поступью смертной до постельки, тут и скосился.
И такой в халупе страх настал – сидим, и дышать даже жутко.
Так вот помер мельник через меня, и сгинули – во веки веков – его деньжонки капиталом.
А очень тут загрустила Виктория Казимировна. Плачет она и плачет, и всю неделю плачет – не сохнут слезы.
А как приду к ней – гонит и видеть меня не может.
Так прошла, запомнил, неделя, являюсь к ней. Слез, – смотрю, – нету, и подступает она ко мне даже любовно.
– Что ж, – говорит, – ты сделал, Назар Ильич господин Синебрюхов? Ты, – говорит, – во всем виноват, ты теперь и раскаивайся. Ты, – говорит, – погубил моего отца. И через это я окончательно лишилась его деньжонок. И теперь достань ты мне хоть с морского дна какой-нибудь небольшой капитал, а иначе, – говорит, – ты первый для меня преступник, и уйду я, знаю куда, в обоз, – звал меня в любовницы прапорщик Лапушкин и обещал даже золотые часишки с браслеткой.
Покачал я прегорько головой, дескать, откуда мне такому-то разжиться капиталом, а она вскинула на плечи трикотажный платочек, поклонилась мне низенько.
– Пойду, – говорит, – поджидает меня прапорщик Лапушкин. Прощайте, пожалуйста, Назар Ильич господин Синебрюхов!
– Стой, – говорю, – стой, Виктория! Дай, – говорю, – срок, дело это обдумать надо.
– А чего, – говорит, – его думать? Пойди да укради хоть с морского дна, только исполни мою просьбу.
И осенила тут меня мысль.
На войне, – думаю, – все можно. Будут, может, немцы наступать – пошурую по карманам, если на то пошло.
А вскоре и вышел подходящий случай.
Была у нас в окопах пушечка… Эх, дай бог память – Гочкис заглавие. Морская пушечка Гочкис.
Дульце у ней тонехонькое, снаряд – и смотреть на него глупо, до того незначительный снаряд. А стреляет она всячески не слабо. Стрельнет и норовит взорвать что побольше.
Над ней и командир был – морской подпоручик Винча. Подпоручик ничего себе, но – сволочь. Бить не бил, но под винтовку ставил запросто.
А очень мы любили эту пушечку и завсегда ставили ее в свой окоп.
Тут, скажем, пулемет, а тут небольшое насаждение из елок и – пушечка.
Германии она очень досаждала. В польский костел она била по кумполу, потому был там германский наблюдатель.
По пулеметам тоже била.
И прямо немцам она не давала никакого спасения.
Так вот, вышел случай.
Выкрали немцы в ночное время у ней главную часть – затвор. И притом унесли пулемет. И как это случилось – удивительно подумать. Время было тихое, я, безусловно, к Виктории Казимировне пошел, часовой у пушечки вздремнул, а подчасок, дрянь такая худая, в дежурный взвод пошел. Там в картишки играли.
Ну ладно. Пошел.
Только играет он в карты, выигрывает и, сучий сын, не поинтересуется посмотреть, что случилось.
А случилось: немцы пушечкин затвор стибрили.
К утру только пошел подчасок к пушечке и зрит: лежит часовой, безусловно мертвый, и кругом – кража.
Ох и было же что тогда!
Морской подпоручик Винча тигрой на меня наскакивает, весь дежурный взвод ставит под винтовку и каждому велит в зубах по карте держать, а подчаску – веером три карты.
А к вечеру едет – волнуется генерал ваше превосходительство.
Ничего себе, хороший генерал. Но, конечно, не очень уж. Вот он взглянул на взвод, и гнев его прошел. Тридцать человек, как один, в зубах по карте держат.
Усмехнулся генерал.
– Выходи, – говорит, – отборные орлы, налетай на немцев, разоряй внешнего врага.
Вышли тут, запомнил, пять человек, и я с ними.
Генерал ваше превосходительство восхищается нами.
– Ночью, – говорит, – летите, отборные орлы. Режьте немецкую проволоку, изыскивайте хоть какой-нибудь пулемет и, если случится, – пушечкин затвор.
Хорошо-с.
К ночи мы и пошли.
Я-то играючи пошел. Мыслишку, во-первых, свою имел, а потом, имейте в виду, жизнь свою я не берег. Я, знаете ли, счастье вынул.
В одна тыща девятьсот, должно быть, что в шестнадцатом году, запомнил, ходил такой черный, люди говорили, румынский мужик. С птицей он ходил. На груди у него – клетка, а в клетке – не попка, попка – та зеленая, а тут вообще какая-то тропическая птица. Так она, сволочь такая, ученая, клювом вынимала счастье – кому что. А мне, запомнил, планета Рак и жизнь предсказана до девяноста лет.
И еще там многое что предсказано, что – я уж и позабыл, да только все исполнилось в точности.
И тут вспомнил я предсказание и пошел, прямо скажу, гуляючи.
Подошли мы к немецкой проволоке. Темь. Луны еще не было. Прорезали преспокойно лаз. Спустились вниз, в окопчики в германские. Прошли шагов с полста – пулемет, пожалуйста.
Уронили мы германского часового наземь и придушили тут же…
Очень мне это было неприятно, жутковато, и вообще, знаете ли, ночной кошмар.
Хорошо-с.
Сняли пулемет с катков, разобрали кому что: кому катки, кому ящики, а мне, запомнил, подсунули самую что ни на есть тяжесть – тело пулемета. Почти что целый пулемет.
И такой, провались он совсем, претяжеленный был; те налегке – шаг да шаг, и скрылись от меня, а я пыхчу – затрудняюсь, поскольку мне досталась такая тяжесть. Мне бы наверх ползти, да смотрю – проход сообщения… Я в проход сообщения… А из-за угла вдруг германец прездоровенный-здоровенный, и наперевес у него винтовка. Бросил я пулемет под ноги и винтовку тоже против него вскинул.
Только чую – германец стрельнуть хочет, голова на мушке.
Другой оробел бы, другой – ух как оробел бы, а я ничего – стою, не трепыхнусь даже. А поверни я только спину либо щелкни затвором – тут, безусловно, мне и конец.
Так вот стоим друг против дружки, и всего-то до нас пять шагов. Зрим друг друга глазами и ждем, кто побежит. И вдруг как задрожит германец, как обернется назад… Тут я в него и стрельнул. И вспомнил, чего задумал. Подполз к нему, пошарил по карману – противно. Ну да ничего – превозмог себя, вынул кабаньей кожи бумажник, вынул часишки в футляре (немцы все часишки в футляре носят), взвалил пулемет на плечо и наверх. Дошел до проволоки – нету лаза. Да и мыслимо ли в темноте его найти?
Стал я через проволоку продираться – трудно. Может быть, час или больше лез, всю прорвал себе спину и руки совсем изувечил. Да только все-таки пролез. Вздохнул я тут спокойно, залег в траву, стал себе руки перевязывать – кровь так и льет.
И забыл совсем, чума меня возьми, что я еще в германской стороне, а уж светает. Хотел было я бежать, да тут немцы тревогу подняли, нашли, видимо, у себя происшествие, открыли по русским огонь, и, конечно, поползи я, тут бы меня приметили и убили.
А место, – смотрю, – вполне открытое было и подальше травы даже нет – лысое место. А до халуп шагов триста.
Ну, – думаю, – каюк-компания, лежи теперь, Назар Ильич господин Синебрюхов, благо трава спасает.
Хорошо. Лежу.
А немцы, может быть, очень обиделись: стибрили у них пулемет и двоих почем зря убили, – мстят – стреляют, прямо скажу, без остановки.