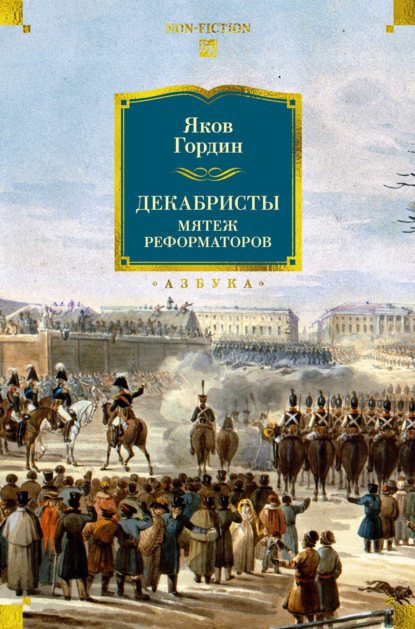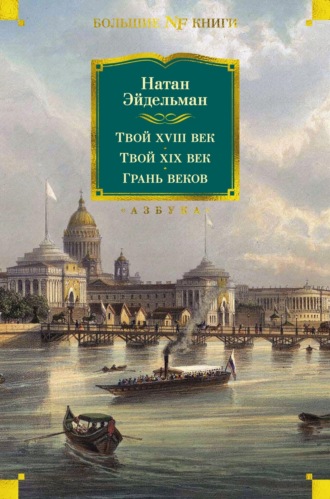
Полная версия
Твой XVIII век. Твой XIX век. Грань веков
В семейственной жизни прадед мой Ганнибал так же был несчастлив, как и прадед мой Пушкин. Первая жена его, красавица, родом гречанка, родила ему белую дочь. Он с ней развелся и принудил ее постричься в Тихвинском монастыре, а дочь ее Поликсену оставил при себе, дал ей тщательное воспитание, богатое приданое, но никогда не пускал ее себе на глаза. Вторая жена его, Христина-Регина фон Шеберх, вышла за него в бытность его в Ревеле обер-комендантом и родила ему множество черных детей обоего пола».
Итак, Ганнибал, по рассказу Пушкина, чуть не лишился головы вслед за бывшим послом Василием Долгоруким (в свите которого некогда возвращался из Франции), вместе с другими противниками Анны Иоанновны. Влиятельный полководец Миних чудом спас… С политическими неприятностями приходят семейные, и наш герой осенью 1737-го – давно в печали, отставке: в своей деревне вспоминает славные петровские годы и ожидает…
Мы теперь точно знаем, что Ганнибалова деревушка (вернее, хутор, мыза) называлась Карьякула и находилась в тридцати верстах юго-западнее Ревеля (нынешнего Таллина): пять крестьянских хозяйств и не намного большее помещичье… Знаем также, что с первой женой отставной майор расправился куда страшнее, чем это представлялось поэту: согласно материалам бракоразводного дела, обнаруженного много лет спустя, муж «бил несчастную смертельными побоями необычно», обвиняя жену (и, кажется, не без оснований) в попытке его отравить; много лет держал ее «под караулом», на грани голодной смерти. Война супругов, продолжавшаяся много лет, завершилась разводом и отправкой Евдокии Андреевны из Петербурга в Тихвинский монастырь.
О, Ганнибал! Где ум и благородство!Так поступить с гречанкой! Или простоСошелся с диким нравом дикий нрав.. . . . . . . . . .Мне все равно. Гречанку жаль, и яНи женщине, ни веку не судья[1].К осени 1737 года Ганнибал уже был отцом двух «черных детей»: старшего сына Ивана, будущего знаменитого генерала, и старшей дочери Елизаветы (да сверх того – от первого брака – нелюбимой Поликсены). До рождения пушкинского собеседника Петра Абрамовича Ганнибала оставалось пять лет, до появления на свет прямого деда Осипа Абрамовича – семь лет…
Картина вроде бы ясна, но опять, опять раздается глас «историка строгого», который придирается к складному пушкинскому рассказу. Оказывается, тайное житье в эстонской деревне, боязнь, что обман откроется, – все это, по мнению авторитетных современных исследователей, «легенда, далекая от действительности».
На этот раз речь идет уже не о частном, хоть и эффектном эпизоде – встречал царь Петр черного крестника или не встречал? Тут спорят о целом десятилетии ганнибаловской жизни, об отношениях с грозной властью Анны и Бирона…
Документы свидетельствуют, что, возвратясь из Сибири, майор Ганнибал… поступил на службу, то есть отнюдь не скрывался, а был на виду: два года, с 1731 по 1733 год, он занимал должности военного инженера и преподавателя гарнизонной школы в крепости Пернов (нынешнее Пярну). Потом действительно семь лет просидел в деревне – но совсем не тайно – и время от времени сам напоминал правительству о своем существовании: например, просил императрицу Анну об увеличении пенсии, но получил отказ…
Итак, опять ошибка или неточность?
Да, несомненно.
Но, оказывается, бывают ошибки не менее любопытные, чем самые верные подробности.
КОЛОКОЛЬЧИКМемуары Ганнибала по-французски и другие «драгоценные бумаги» – сколько б мы отдали, чтобы прочесть их! Одно дело немецкая биография, составленная родственником через несколько лет после кончины самого рассказчика, совсем другое дело – его собственноручные записки, наверное весьма откровенные, если было чего «панически бояться»; кстати, французский язык, столь распространенный среди дворян конца XVIII и начала XIX столетия, в петровские времена считался еще отнюдь не главным и уступал в России немецкому, голландскому; пожалуй, лишь с 1740-х годов, когда новая императрица Елизавета Петровна сильно ослабила немецкое и усилила французское влияние при дворе, – пожалуй, только тогда французский начинает брать верх. Так что, сочиняя по-французски при Анне Иоанновне, Арап Петра Великого все же был в большей безопасности, чем если бы писал по-русски, по-немецки… Но вот что любопытно: в немецкой биографии ни слова о сожженных записках, о страхе. Это понятно: там ведь о покойном Абраме Петровиче говорится только хорошее; но от кого же Пушкин дознался о паническом сожжении записок? Наверное, все тот же Петр Абрамович, который, вручая внучатому племяннику немецкую биографию, мог вздохнуть о французской… Сказать-то сказал в 1824-м или в 1825-м, но Пушкин с «особенным чувством» эту подробность запомнил и десять лет спустя внес ее в свою «Автобиографию».
Насчет «особенного чувства» мы не фантазируем, но уверенно настаиваем: дело в том, что на несколько страниц раньше та же самая пушкинская «Автобиография» начиналась вот с каких строк: «…в 1821 году начал я свою биографию и несколько лет сряду занимался ею. В конце 1825 года, при открытии несчастного заговора, я принужден был сжечь свои записки. Они могли замешать многих и, может быть, умножить число жертв».
Итак, Пушкин «принужден был сжечь свои записки», Ганнибал «велел их при себе сжечь».
В потомке повторяется почти буквально история предка, и не один раз, а постоянно в начале 1830-х годов поэт запишет о дедах: «Гонимы, гоним и я».
Подобные сопоставления – может быть, ради них и разговор о предках ведется:
Упрямства дух нам всем подгадил…Не вызывает никаких сомнений, что много раз, рассказывая о Ганнибале и других пращурах, Пушкин сознательно сопоставляет биографии, выводит «семейные формулы». Но иной раз это происходит неумышленно – и тем особенно интересно!
Страх старого Ганнибала – страх колокольчика… Пушкин не утверждает прямо, будто записки были сожжены при звуке приближающейся тройки; зато известный историк Дмитрий Бантыш-Каменский со слов Пушкина записал о Ганнибале, что в уединении тот занялся описанием истории своей жизни на французском языке, но однажды, услышав звук колокольчика близ деревни, вообразил, что за ним приехал нарочный из Петербурга, и поспешил сжечь свою интересную рукопись.
Итак, колокольчик…
Колокольчику под дугою лихой тройки Пушкин посвятил немало знаменитых строк:
Колокольчик однозвучный утомительно гремит…Колокольчик вдруг умолк…Кто долго жил в глуши печальной,Друзья, тот верно знает сам,Как сильно колокольчик дальнойПорой волнует сердце нам…Колокольчик – это дорога, заезжий друг или – страх, арест, жандарм… Январским утром 1825 года в Михайловском зазвенел колокольчик Пущина:
Когда мой двор уединенный,Печальным снегом занесенный,Твой колокольчик огласил.Как любопытно, что и прадед переживал те же самые чувства… Как важно…
Одно плохо —
НЕ БЫЛО КОЛОКОЛЬЧИКАВладислав Михайлович Глинка (1903–1983) – один из самых интересных людей, которых я встречал. Он написал для школьников немало прекрасных книг о людях конца XVIII – начала XIX века («Повесть о Сергее Непейцыне», «Повесть об унтере Иванове» и другие)… Кроме того, что они написаны умно, благородно, художественно, их отличает щедрость точного знания. Если речь идет, например, об эполетах или о ступеньках Зимнего дворца, о жалованье инвалида, состоящего при шлагбауме, или о деталях конской сбруи 1810-х годов, – все точно, все так и было, и ничуть не иначе!
Удивляться этому не следует, ибо Глинка-писатель был и крупным ученым, который работал во многих музеях, был главным хранителем русского отделения Государственного Эрмитажа и великолепно знал немыслимое количество людей и вещей прошлого…
Приносят ему, например, предполагаемый портрет молодого декабриста-гвардейца, Глинка с нежностью глянет на юношу прадедовских времен и вздохнет:
– Да, как приятно, декабрист-гвардеец; правда, шитья на воротнике нет, значит, не гвардеец, но ничего… Зато какой славный улан (уж не тот ли, кто обвенчался с Ольгой Лариной – «улан умел ее пленить»); хороший мальчик, уланский корнет, одна звездочка на эполете… Звездочка, правда, была введена только в 1827 году, то есть через два года после восстания декабристов, – значит, этот молодец не был офицером в момент восстания. Конечно, бывало, что кое-кто из осужденных возвращал себе солдатскою службою на Кавказе офицерские чины, но эдак годам к тридцати пяти – сорока, а ваш мальчик лет двадцати… да и прическа лермонтовская, такого зачеса в 1820–1830-х годах еще не носили. Ах, жаль, пуговицы на портрете неразборчивы, а то бы мы определили и полк и год.
Так что никак не получается декабрист – а вообще славный мальчик…
Говорят, будто Владислав Михайлович осердился на одного автора, написавшего в своем вообще талантливом романе, что Лермонтов «расстегнул доломан на два костылька», в то время как («кто ж не знает!») «костыльки», особые застежки на гусарской куртке – доломане, были введены через несколько лет после гибели Лермонтова (указывается точная дата).
«Мы с женой целый вечер смеялись…»
Вот такому удивительному человеку автор этих строк поведал свои сомнения и рассуждения насчет старшего Ганнибала, его записок и колокольчика.
– Не слышу колокольчика, – сказал Владислав Михайлович.
– То есть где не слышите?
– В начале, в середине XVIII века не слышу, да и не вижу: на рисунках и картинах той поры не помню колокольчиков под дугою: и в литературе, по-моему, раньше Пушкина и его современника Федора Глинки никто колокольчик, «дар Валдая», не воспевал…
Не помнил Владислав Михайлович колокольчика при Петре Великом и ближайших его преемниках; не помнил и предложил справиться точнее у лучшего, по его мнению, знатока «колокольных дел» Юрия Васильевича Пухначева. Отыскиваю Юрия Васильевича, он очень любезен и тут же присоединяется к Глинке: не слышит, не видит колокольчика в Ганнибаловы времена: часто на колокольчике стоит год изготовления… Самый старый из всех известных – 1802, в начале XIX столетия…
Впрочем, по разным воспоминаниям и косвенным данным, время появления первых ямщицких колокольчиков под дугою относится к 1770–1780-м годам, времени правления Екатерины II.
Значит, Ганнибал если и мог услышать пугавший его звон, то лишь в самые поздние годы, когда был очень стар, находился в высшем генеральском чине и жил при совсем не страшном для него правлении «матушки Екатерины II». Итак, во-первых, прадед не так уж боялся, совсем не скрывался даже в 1730-х годах, а во-вторых, колокольчика не слыхивал…
Что же истинного в пушкинской записи? Прежде всего, что Ганнибал вообще-то побаивался… Ведь недавно из Сибири вернулся, знал, как одних волокут на плаху, а других – в каторжные рудники.
Так что общий тон тогдашней эпохи, возможность легкой гибели – все это и через несколько поколений дошло к поэту, схвачено им верно.
Но вот – колокольчик…
Колокольчика боялся, конечно, сам Пушкин.
Не зная точно, когда его ввели, он невольно подставляет в биографию прадеда свои собственные переживания.
В многочисленных пушкинских строках о колокольчике слова насчет прадеда единственные, где этот звонкий спутник является вестником зла… А ведь под колокольчиком ехал Пушкин в южную ссылку, а оттуда – в псковскую… Колокольчик загремит у Михайловского и в ночь с 3 на 4 сентября 1826 года: фельдъегерь, без которого «у нас, грешных, ничего не делается», привозит свободу, с виду похожую на арест. Пушкин, в ожидании жандармского колокольчика или «вообразив, что за ним приехал нарочный», сжигает записки…
Колокольчик увез Пушкина в Москву, вернул в Михайловское, затем – в Петербург, Арзрум, Оренбург – и провожал в последнюю дорогу…
Итак, Абраму Петровичу Ганнибалу нечаянно приписан пушкинский колокольчик. Поэт проговорился – и тем самым допустил нас в свой скрытый мир, сказал больше, чем хотел, о своем многолетнем напряженном ожидании…
Пушкин, между прочим, сам знал высокую цену таких «обмолвок» и однажды написал другу Вяземскому: «Зачем жалеешь… о потере записок Байрона? черт с ними! слава богу, что потеряны. Он исповедался в своих стихах невольно, увлеченный восторгом поэзии».
Самое интересное для нас слово в этой цитате – невольно. «Исповедался невольно в своих стихах» – это Пушкин о Байроне и, конечно же, о себе самом…
Невольно поместив колокольчик в XVIII столетие (знал бы, что ошибается, конечно, убрал бы), Пушкин, выходит, «исповедался» в своих записках.
Что же касается Абрама Петровича, то 4 октября 1737 года он сидел в своей Карьякуле с женой, мальчиком и двумя девочками; жил деревенской жизнью – никого не трогал; вспоминал Петра, былые милости; жалел, что не имеет способа блеснуть знаниями, просвещением, и побаивался тройки (пусть и без колокольчика), побаивался страшной бумаги, которая вдруг может против воли перенести с одного океана на другой.
4 октября 1737 г. Осталось договорить о молодом человеке, который в невеселом осеннем Охотском море, на краю погибели, качает помпу по сто раз и падает без сил, припоминая время от времени, что в море полетела его собственная сумка с чистой бумагой для записей и еще одиннадцать сумок с едой да корзина с бельем. Так что осталась у бедного студента только одна рубашка да несколько записных книжек, с которыми не расставался никогда. Все полетело за борт, ибо «несчастливы были те, кладь которых лежала сверху».
«Таким образом плыли мы, претерпевая, кроме указанного беспокойства, ежедневную стужу и слякоть и в 9 часов утра 14 октября вошли в устье Большой речки».
Камчатка открылась; все плохое как будто позади, но именно тут едва избежали верной гибели: не очень опытные мореходы приняли отлив за прилив и врезались в большие белые валы, уверенные, что сейчас благополучно пристанут к берегу. Тут их, однако, понесло назад, утлая «Фортуна» затрещала, «многие советовали отойти обратно в море и подождать начала прилива. Но если бы так поступили, то наше судно вовсе бы погибло, так как жестокие северные ветры продолжались больше недели. Этим ветром нас отнесло бы в открытое море, и там „Фортуна“ погибла бы, разбитая волнами. Однако другим казалось, что более безопасным было выкинуться на берег, что и было сделано. Наше судно выкинулось саженях в ста к югу от устья Большой речки, и тотчас оно оказалось на сухом месте, так как отлив еще продолжался.
К вечеру, когда начался следующий прилив, из судна вышибло мачту, а на другой день мы нашли только его обломки, все остальное унесло море.
Тогда мы увидели, сколь „Фортуна“ наша была ненадежна, ибо доски внутри были настолько черны и гнилы, что их можно было без труда ломать руками».
Фортуна, судьба, была очень ненадежна…
Земля заходила, завертелась у пассажиров под ногами. Крашенинников решил, что это от слабости и морской качки, но оказалось, что он ошибся: земля на самом деле тряслась. Камчатка встречала путешественников вулканом, землетрясением. Для здешних мест – дело обыкновенное.
Сын петровского солдата, академии студент Степан Крашенинников без сил и без вещей ступает на ту землю, которая подарит ему всероссийскую и мировую славу.
Но сейчас Крашенинникову, честное слово, не до того…
Глава третья
25 ноября 1741 года
Этот день Степан Петрович Крашенинников встретил в губернском городе Иркутске.
Четыре года с небольшим прошло со времени нашей «второй главы», и почти все это время ученый пробыл на краю света: эта фраза сегодня не очень-то звучит: ведь даже название мыса Край Света, резко вдающегося в море на Курильском острове Шикотан, означает всего лишь, что от него на восток, до Сан-Франциско одна вода; однако между 1737 и 1741 годами, заверяем, Камчатка точно была краем света, краем человеческого знания – и от нее на восток простирались почти совершенно неведомые воды. 1537 дней прожил студент на Камчатке, голодал, бедовал (пока не помогли местные власти да новые вещи не пришли взамен тех, что погибли с «Фортуною»), но притом столько записал, зарисовал, собрал, что на обратном пути, когда опять поплыл через Охотское море, боялся во сто крат больше, чем прежде: если и сейчас ящики полетят за борт – пропали четыре года неимоверных трудов… Но обратный путь оказался счастливым, и долгая дорога по Сибири располагает к сладостному предвкушению будущего и приятному возвращению к минувшему…
Первое дело на Камчатке было научиться говорить с местными жителями. Русских на полуострове немного, но один из них хорошо умеет объясняться со здешним народом и берется помогать студенту. Крашенинников, однако, торопился сам выучиться языку камчадалов (или, как они сами себя называют, ительменов), каждый день записывает незнакомые слова и вскоре пускается в разговоры.
Камчадалы – люди веселые, поговорить не прочь. Летом мужчины охотятся на тюленей, ловят и сушат рыбу. Женщины собирают травы, чтобы приготовить из них разные лакомства или сплести покрывало, ковер.
Топоры и ножи почти все сделаны из камня или кости: о железе камчадалы только недавно узнали от русских и еще не совсем к нему привыкли.
Студент смешной, обо всем расспрашивает, улыбается – видно, хороший человек.
Вот приходит один камчадал к другому в гости. Позвали и Крашенинникова. Разжигают огонь. Русский протягивает свой кремень, чтобы, ударив по камню, выбить искру (спичек в то время еще никто не знал). Смеются хозяева: зачем камень о камень бить? Берут палочку, вставляют в специальную дощечку и быстро, быстро вертят: дерево нагревается, затем начинает тлеть, огню дают «поесть» особого мха – и вот уже костер горит прямо в юрте. Становится жарко, дым крепко ест глаза. А камчадал начинает угощать соседа рыбой, мясом, травяным отваром.
Гость поел, ему еще предлагают, потом еще… Пока не взмолится пришедший: «Не могу больше съесть ни кусочка!»
Хозяин смеется: «Ладно, но плати за то, чтобы больше не есть». И гость отдает все, что хозяин ни попросит. И рукавицы, и нож, и украшения, и почти всю одежду… Но пройдет немного дней, и сегодняшний хозяин станет гостем, придет в юрту того, кто сегодня угощал. И опять будет пир, пока гость не устанет есть и сам не отдаст хозяину все, что тот ни попросит.
Так и меняются камчадалы друг с другом вещами. А за деньги ничего у них не получишь, только хохочут, когда студент вынимает монету. Что в ней толку? Разве деньги можно съесть или надеть на себя? «Давай лучше меняться, или просто так бери что хочешь, не жалко!»
Кончается короткое камчатское лето, и жители после трудов спешат повеселиться: запевают песни, непривычные и странные для приезжего, или пускаются в пляс. Иногда целый день не перестают веселиться ни на минуту да еще ночь прихватывают, и так им жарко, что бегут к морю охладиться…
Но вдруг один сорвался с берега и тонет. Никто не бросился помочь.
– Что же вы? – закричал Степан Петрович и приготовился кинуться вниз.
Но его хватают, удерживают: стой, ни с места! К счастью, утопающий сам, хоть и с трудом, выкарабкался на камни.
– Нельзя спасать, – объясняют старики. – Если спасешь, значит сам когда-нибудь непременно утонешь.
– Да что за чепуха! – горячится русский.
Но никто с ним не согласен. И как переубедить этих людей? Лучше поговорить о чем-нибудь другом.
– А где же ваши собаки? – спрашивает Крашенинников.
Хозяин машет рукой: там где-нибудь, в лесу, в поле. Сами добывают себе еду. А вот как зима настанет, есть будет нечего, придут. Толстые, ленивые, наелись за лето. Их привяжут и заставят крепко поголодать – иначе плохо повезут по снегу. «Да скоро зима – сам увидишь!»
В августе уже появляется иней, и вскоре сильные ветры приносят снег. Прошелся над сугробом лютый мороз, и затвердела, как корка, снежная гладь.
Теперь можно поехать туда, где летом увязнешь в болоте. Собаки запряжены – и вперед… Только не зевай, особенно когда с горы спускаешься: мигом перевернутся сани и унесутся с собаками вниз, а ты догоняй по пояс в снегу.
Бежит упряжка по ущелью, а с обеих сторон поднимаются красивые, очень крутые горы.
– Можно ли на них взобраться?
– Взобраться легче, чем спуститься, – отвечает проводник. – Только на длинных ремнях, цепляясь за камни, можно слезть вниз.
А далеко-далеко курится гора – не та, которую видел Крашенинников в первый день, другая, – и время от времени над ее вершиной прыгают языки огня. Крашенинников хорошо знает, что это прорывается наружу подземное пламя, но все-таки спрашивает камчадала:
– Отчего гора горит?
– Оттого, что горные духи в эту пору топят свои юрты.
– Чем же топят?
– Китовым жиром.
– Так ведь киты в море плавают, а духи, ты говоришь, на горе живут.
– Ничего ты не знаешь, – усмехается проводник. – Духи все могут: иногда спускаются в море и выходят оттуда с растопыренными руками, а на каждом пальце насажено по киту. Десять пальцев – десять китов…
«Какая красивая сказка!» – думает русский.
«Вот чудак, – думает о нем камчадал, – не знает, отчего гора горит…»
Тут оба замечают, что собаки не хотят бежать по снежному полю, скулят, зарываются в снег.
– Буран идет, – объясняет проводник.
Путешественники сейчас же укладываются рядом с собаками, чтобы греться их теплом, накрываются чем только можно, укрепляют сани, груз – и вовремя! Налетел буран, да такой, что не видно ничего в двух шагах. Ни двинуться, ни встать невозможно: только лежать, день, два, даже три, да отряхиваться, чтоб не засыпало совсем. И все же наверху наметает огромный сугроб, и поэтому, как только ветер стихнет, – скорее откапывайся.
Наконец непогода кончилась. Солнце, отражаясь от снега, слепит глаза. Всем – и людям, и собакам – мучительно хочется есть, пить. К счастью, на пути селение. Хозяин выходит из юрты, рад гостям. Опять набегает пурга, и как славно слушать ее вой у огня. И самое время попросить хозяина рассказать сказку или описать недавнюю войну.
У камчатских племен нет царей, и все дела мужчины решают сообща, на племенном совете. Но все же на тех советах главное слово принадлежит старикам, а еще главнее – слово вождя.
Конечно, вождь не имеет такой власти, как русский царь в Петербурге, но он всех богаче. На севере Камчатки, у коряков, Крашенинников знакомится с вождем, у которого так много оленей, что он и не знает, как их сосчитать.
– Сколько их? – спрашивает русский.
– Столько, – отвечают ему, – сколько пальцев на руках и ногах у одного человека, потом у двух человек, у трех, у десяти, потом у двадцати…
Не умеют жители Камчатки считать без пальцев. С трудом удается понять, что у вождя сто тысяч оленей!
Стоит ли воевать при таком богатстве? Оказывается, как раз самые зажиточные люди стремятся приобрести еще больше добра и заставляют идти войной целые племена. Воюют храбро, отчаянно. «А когда увидят, – записывает Крашенинников, – что неприятель берет верх, то всякий камчадал, заколов жену и детей своих, или разбивается насмерть, бросившись с берега, со скалы, или с оружием устремляется на неприятеля, один на всех – и гибнет в бою».
Грустно Степану Крашенинникову. Совсем не так весело на Камчатке, как показалось ему в первые дни. Легко погибнуть в этом краю и камчадалу и русскому: от бури, вулкана, шторма, от пули, стрелы, топора.
«На Камчатке проживешь семь лет, что ни сделаешь…» Крашенинников семь лет не прожил, но сделал за четыре года столько работы – другому лет на двадцать… Огромный полуостров объездил вдоль и поперек несколько раз – и все ему мало. Все беспокоится, что в Петербурге, Москве почти совсем ничего не знают о таком дальнем крае, как Камчатка. Крашенинников повторяет: «Надо знать свое отечество во всех его пределах».
Множество его записей и наблюдений станут сокровищем мировой науки: ведь он видел едва затронутый европейской цивилизацией первобытный мир; видел таким, каким этот мир вскоре – через несколько десятилетий – уже не будет; Крашенинников вовремя приехал и вовремя на все это взглянул.
На Камчатке же за четыре года к нему привыкли: куда ни приезжает, все высыпают наружу – радуются старому знакомому. Выходят купцы, но глядят на приезжего без всякого интереса: что толку в нем – ни лисиц, ни бобров не привез, разве что по одной штуке для коллекции; одни бумажки, да камни, да сухие растения. А ведь за каждого соболя или лису, если довезти их до Москвы или Петербурга, важные господа большие деньги дадут! Нет, совсем не интересуются купцы Степаном Петровичем.
А тот не унывает, радуется, что привез много вещей, за которые ничего платить не будут. Не только привез, но каждому листику, шкурке, камню знает название – на камчатском языке, на русском, да еще по-латыни и по-гречески: так положено записывать любому ученому, чтобы в другой стране его понять смогли (вот где пригодилось студенту знание языков!). Купцы давно ушли в свои избы. Зато камчадалы не просто рады веселому и доброму гостю, но даже поют сложенную о нем песню. По-камчатски она так начиналась: «Студенталь теемрик битель читис киллизик»; и сам герой быстро перевел ее на русский язык: