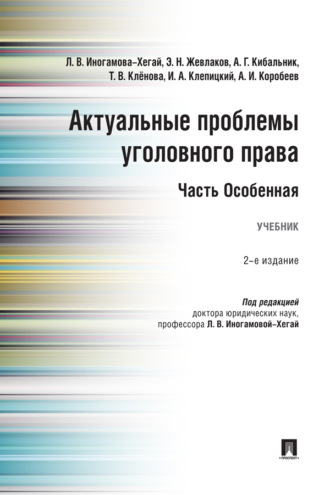
Полная версия
Актуальные проблемы уголовного права. Часть Особенная
Признать оправданным такой законодательный прием не представляется возможным, ибо по правилам квалификации преступлений при наличии конкурирующих норм нам сейчас придется вменять не только ч. 4 ст. 206 УК, но и ст. 105 УК, а это будет нарушением принципа справедливости. Новый подход законодателя к конструированию ответственности за убийства, сопряженные с другими преступлениями, вызвал обоснованную критику в литературе.
Так, не совсем понятным для криминалистов является вопрос: требуется ли в случаях захвата заложника или террористического акта и умышленного причинения смерти дополнительная квалификация по признакам убийства? Если брать за основу подход, применение которого сохраняется для других пунктов ч. 2 ст. 105 УК, где имеется указание на сопряженность, то, видимо, требуется. Но тогда остается неясным сам смысл внесенных в ст. 205 и 206 УК изменений. И действительно: гораздо логичнее было бы не только сохранение в п. «в» ч. 2 ст. 105 УК «захвата заложника», но и включение в него террористического акта и диверсии как сопряженных с убийством преступлений. Еще более радикальным шагом в выборе оптимального направления развития отечественного уголовного законодательства в рассматриваемой сфере мог бы стать полный отказ от использования института сопряженности в законодательных конструкциях.
ПРОБЛЕМА. Достаточно большие споры в теории и трудности в судебной практике вызывает квалификация действий лица, совершающего убийство женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности (п. «г» ч. 2 ст. 105 УК), в условиях фактической ошибки.
В ситуации, когда виновный убивает женщину, будучи уверенным, что она беременная, но в действительности этого состояния у нее нет, мы стакиваемся с дилеммой. Квалифицировать это убийство по п. «г» ч. 2 ст. 105 УК нельзя, ибо убитой оказалась не беременная женщина. Рассматривать деяние как оконченное простое убийство (ч. 1 ст. 105 УК) невозможно, поскольку умысел виновного простирался на лишение жизни именно беременной женщины. Расценивать это преступление как покушение на убийство женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности, тоже, строго говоря, некорректно, так как смерть потерпевшей все же наступила. Не выручает и четвертый вариант, предложенный некоторыми учеными: квалифицировать все содеянное по совокупности преступлений как простое убийство (ч. 1 ст. 105 УК) и покушение на убийство беременной женщины (ч. 3 ст. 30 и п. «г» ч. 2 ст. 105 УК). В последнем случае совершенное виновным одно убийство искусственно удваивалось бы, а в соответствии с ч. 2 ст. 6 УК «никто не может нести уголовную ответственность дважды за одно и тоже преступление».
Как разрешить дилемму? Поскольку все четыре варианта квалификации неточны, а пятого – не дано, остается из нескольких зол выбрать меньшее. Меньшей неточностью, в нашем представлении, будет оценка содеянного как покушения на убийство женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности. Совершение убийства при ошибочном предположении о состоянии беременности потерпевшей в соответствии с принципом субъективного вменения можно рассматривать только как покушение на это преступление.
ПРОБЛЕМА. От убийства, совершенного общеопасным способом (п. «е» ч. 2 ст. 105 УК), необходимо отграничивать террористический акт и диверсию. Оба последних преступления могут совершаться, как известно, путем взрыва, поджога или иными подобными действиями, т. е. общеопасным способом. Федеральным законом РФ от 27 декабря 2009 г. ст. 205 и 281 УК дополнены новыми положениями, согласно которым особо квалифицированными видами этих преступлений стали признаваться террористический акт и диверсия, повлекшие умышленное причинение смерти потерпевшему.
Убийство, совершенное общеопасным способом, отличается от указанных преступлений, во-первых, по объекту (применительно к террористическому акту им является общественная безопасность, а применительно к диверсии – экономическая безопасность и обороноспособность государства), во-вторых, по целям (целью теракта выступает воздействие на принятие решения органами власти или международными организациями, целью диверсии – подрыв экологической безопасности и обороноспособности России).
Но и после этих уточнений остается открытым вопрос: как квалифицировать террористический акт и диверсию, отягощенные умышленным причинением смерти потерпевшим, – только по п. «б» ч. 3 ст. 205 и ч. 3 ст. 281 УК или еще и дополнительно по п. «е» ч. 2 ст. 105 УК? На первый взгляд может показаться, что законодатель, сконструировав новые виды особо квалифицированных убийств, выделил их в специальные нормы и тем самым дал негласное (но однозначное) указание на применение в судебной практике только этих специальных норм. На самом деле это не совсем так.
Сравнительный анализ санкций всех трех рассматриваемых статей приводит к выводу, что убийство в этом ряду по-прежнему остается более тяжким преступлением (хотя бы потому, что в санкции ч. 2 ст. 105 УК в качестве возможного наказания фигурирует смертная казнь, отсутствующая в ст. 205 и 281 УК). Следовательно, окончательная оценка рассматриваемых преступлений, исходя из положений теории квалификации, возможна только путем дополнительного вменения п. «е» ч. 2 ст. 105 УК.
Вряд ли законодатель преследовал цель столь своеобразным способом «удвоить» уголовную ответственность для террористов и диверсантов. Скорее всего, это очередная погрешность техники законотворчества. Такой подход нельзя признать продуктивным. Но не потому, что он лишает судебную практику возможности применять ст. 105 УК по совокупности со ст. 205 и 281 УК14, а как раз наоборот – потому что он заставляет правоприменителя в нарушение принципа справедливости (ч. 2 ст. 6 УК) возлагать на виновного уголовную ответственность дважды за одно и то же преступление.
ПРОБЛЕМА. При квалификации группового убийства (п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК) необходимо учитывать содержащееся в ст. 35 УК определение понятия преступления, совершенного группой лиц, группой лиц по предварительному сговору и организованной группой лиц, а также все те положения уголовного закона и теории уголовного права, которые касаются института соучастия.
В этой связи прежде всего возникает вопрос: можно ли квалифицировать как групповое убийство действия лица, причинившего смерть потерпевшему совместно с лицами, которые не могут быть признаны субъектами уголовной ответственности?
При ответе на поставленный вопрос мнения правоведов разделились. Одни из них15 полагают, что для привлечения к ответственности за совершение группового убийства необходимо установить наличие не только двух или более лиц, но и вменяемость и достижение возраста уголовной ответственности для каждого из соучастников.
Другие криминалисты16 утверждают, что для квалификации убийства как совершенного группой лиц совсем не обязательно, чтобы все участники отвечали требованиям субъекта преступления. Достаточно установить сам факт совместности действий нескольких лиц при совершении конкретного убийства, безотносительно к тому, что к уголовной ответственности может быть привлечен только один из них.
Мнение последней группы ученых нашло поддержку у правоприменителя. Президиум Верховного Суда РФ в одном из обзоров судебной практики прямо указал: «Преступление признается совершенным группой лиц по предварительному сговору, если в нем участвовали лица, заранее договорившиеся о совместном его совершении, независимо от того, что некоторые из участвовавших не были привлечены к уголовной ответственности в силу недостижения возраста уголовной ответственности или ввиду невменяемости»17.
В литературе отмечается, что если убийство непосредственно совершено двумя и более лицами, вопрос о правильности применения п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК сомнений не вызывает. А если кто-то из соучастников отсутствует на месте убийства?
С. В. Бородин полагал, что само по себе наличие сговора на совершение убийства нельзя признать достаточным для квалификации преступления по п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК. По смыслу закона преследуется лишение жизни человека, совершенное группой лиц, а не имеется в виду группа лиц, которая после сговора об убийстве «поручила» совершить преступление одному человеку18.
Можно, конечно, и так истолковать слова закона об ответственности за групповое убийство. Но «впишется» ли в такую интерпретацию институт соучастия, на котором базируется спорный пункт? Если следовать логике автора, то получается, что организатор убийства, присутствующий на месте преступления и участвующий в нем, будет отвечать по п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК, но тот же самый соучастник, наблюдающий за организованным им убийством из окна автомобиля и дающий указания исполнителям, к ответственности по этому пункту привлечен быть не может. При таком подходе соучастие в групповом убийстве сводится, по сути дела, к одному соисполнительству. Не совсем ясно поэтому, в каких же случаях судебная практика может воспользоваться рекомендациями Пленума Верховного Суда РФ и квалифицировать действия соучастников в убийстве не только по п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК, но и по ст. 33 УК? Что касается существа проблемы, то едва ли оправданным в условиях всплеска в современной России групповой насильственной преступности станет ограничение сферы применения в судебной практике п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК.
Надо признать, что правоприменитель безоговорочно поддерживает оспариваемую выше позицию. Так, Верховный Суд РФ по делу Г. и Г-вой указал: действия лица не образуют квалифицирующего признака убийства (совершение группой лиц по предварительному сговору), если это лицо не было соисполнителем убийства, а являлось пособником19.
По другому делу Верховный Суд России разъяснил, что само по себе наличие сговора на совершение убийства при осуществлении преступного умысла одним лицом нельзя признать достаточным для осуждения за убийство как совершенное группой лиц20.
Но особенно показательно следующее дело. За покушение на убийство по предварительному сговору группой лиц Московским городским судом осуждены М., Б. и К. Суд признал установленным, что все трое договорились убить потерпевшего. В присутствии остальных соучастников выстрел из пистолета произвел М., причинив жертве сквозное огнестрельное ранение. После этого все соучастники с места происшествия скрылись. Верховный Суд России признал квалификацию этих действий как групповых ошибочной, поскольку Б. и К. никаких действий, непосредственно направленных на лишение жизни потерпевшего, не совершили21. Из приведенного примера наглядно видно, сколь эфемерна грань, которую пытается провести высшая судебная инстанция страны между групповым убийством и обычным соучастием в нем. Выходит, что если бы на курок пистолета одновременно нажали все трое, то было бы групповое убийство, но поскольку выстрелить они доверили одному М., содеянное ими не идет дальше рядового соучастия в обычном (не групповом) убийстве.
ПРОБЛЕМА. Наконец, определенные сложности возникают и при квалификации убийств в целях использования органов или тканей потерпевшего. С объективной стороны совершение данного преступления должно рассматриваться прежде всего как процесс непосредственного извлечения органов и тканей из организма живого человека, когда физический вред потерпевшему причиняется в виде характерного нарушения анатомической целостности его тела – отнимается жизненно важный фрагмент организма, что с внутренней закономерностью обусловливает наступление биологической смерти человека, являясь ее необходимым условием. Однако п. «м» ч.2 ст. 105 УК должен вменяться и в тех случаях, когда цель посмертного удаления жизненно важного компонента организма лица обусловливает причинение виновным смерти потерпевшему иными способами – как путем действия (нанесение ударов по голове, отравление, удушение жертвы и т. п.), так и путем бездействия (неоказание реанимационной помощи пациенту).
Таким образом, квалификация содеянного по п. «м» ч.2 ст. 105 УК должна производиться независимо от того, наступила ли смерть потерпевшего непосредственно в процессе изъятия у него органов или тканей, или он был умерщвлен любым другим способом с намерением виновного в последующем воспользоваться органами его тела.
В последнем случае, по мнению ряда исследователей, действия виновных подлежат дополнительной квалификации по ст. 244 УК (надругательство над телами умерших). Нам такая квалификация кажется сомнительной. Во-первых, сам термин «надругательство» предполагает несколько иную психологическую окраску действий, производимых виновным с трупом, по сравнению с сугубо утилитарным подходом убийцы, производящим соответствующие манипуляции с телом жертвы, выбранной в качестве трансплантационного материала. Во-вторых, преступление, предусмотренное ст. 244 УК, может быть совершено только с прямым умысла, в действиях же «убийц-трансплантологов» желание «надругаться» над потерпевшим отсутствует (волевой момент умысла у них характеризуется иным желанием – получить в свое распоряжение искомые органы или ткани). Фактическое изъятие у убитого органов и тканей лежит за рамками данного состава. Преступление будет считаться оконченным с момента убийства потерпевшего с целью использования его органов или тканей, безотносительно к тому, реализована поставленная цель или нет.
ПРОБЛЕМА. Имеются проблемы и при квалификации привилегированных видов убийств. Так, убийство матерью новорожденного ребенка (ст. 106 УК) отнесено к категории привилегированных составов. Что послужило основанием для такой оценки: исторические традиции или иные соображения? Думается, что причинами, побудившими законодателя пойти на этот шаг, были не отголоски далекого прошлого, когда родитель рассматривался как обладатель некоего «преимущественного» права распоряжаться жизнью своего ребенка, а современные познания в области медицины, согласно которым процесс деторождения есть мощный стресс-фактор, оказывающий столь сильное воздействие на психику роженицы, что она нередко утрачивает способность к адекватному поведению и уподобляется в такой ситуации человеку, действующему в состоянии аффекта. Основным криминообразующим фактором послужило, скорее всего, особое психофизиологическое состояние женщины, которое она испытывает в период родов, сразу же после них или в течение еще какого-то непродолжительного промежутка времени.
На эту мысль наводит и то обстоятельство, что современный российский законодатель довольно четко отграничивает понятие убийства новорожденного ребенка от детоубийства, которым широко оперировал законодатель дореволюционный. Ясно, что не любое детоубийство есть убийство новорожденного ребенка. Вопрос, следовательно, состоит лишь в том, чтобы определить ту черту, за которой умышленное лишение жизни появившегося на свет младенца (как привилегированный состав) превращается в обычное (простое или квалифицированное) убийство.
Между тем убийство новорожденного во время или сразу же после родов не связывается законодателем с каким-либо особым психологическим состоянием роженицы. Можно лишь предполагать, что законодатель имел в виду именно такое состояние матери-убийцы, но в диспозиции нормы свою мысль четко не выразил.
Неясность уголовного закона порождает ситуации, ставящие судебную практику в тупик. В самом деле, можно ли квалифицировать по ст. 106 УК заранее обдуманное убийство новорожденного сразу же после родов женщиной, неоднократно рожавшей до этого и не испытывающей особого психологического дискомфорта от подобной процедуры? По букве закона – да, по смыслу – нет.
Отдельные криминалисты в этой связи полагают, что при убийстве во время или сразу же после родов определенные отклонения в психологическом состоянии роженицы, влияющие на возможность осознания ею своего поведения и принятие решения, презюмируются законодателем, и эта презумпция объявляется неопровержимой. Поэтому, если в конкретном случае окажется, что роды прошли гладко и не вызвали сколько-нибудь заметных психических расстройств, но тем не менее мать по каким-либо соображениям убила ребенка во время или сразу же после родов, содеянное должно квалифицироваться не на общих основаниях («простое» убийство), а по ст. 106 УК. Нам же, напротив, представляется, что законодателю следовало бы откорректировать эту часть диспозиции нормы, увязав совершение данной разновидности преступления не только с моментом причинения смерти новорожденному, но и с особым психическим состоянием в этот момент его матери. Отсутствие такого состояния должно исключать ответственность по ст. 106 УК.
ПРОБЛЕМА. Провокацией убийства в состоянии аффекта, квалифицируемого по ст. 107 УК, может служить лишь противоправное насилие. Акт правомерного применения насилия потерпевшим исключает возможность оценки действий убийцы по ст. 107 УК. Но и при противоправном насилии может возникнуть ситуация, когда виновный будет одновременно действовать и в состоянии аффекта, и в состоянии необходимой обороны, превысив при этом ее пределы. Налицо – конкуренция двух привилегированных норм. Коллизия в данном случае должна разрешаться путем применения ст. 108 УК (убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны), поскольку санкция данной нормы предусматривает более мягкое наказание. Таким образом, в подобных ситуациях для правильной квалификации действий виновного по ст. 107 УК необходимо в первую очередь исключить возможность применения ст. 108 УК.
Оценка степени тяжести оскорбления, спровоцировавшего аффективное состояние, – есть прерогатива органов следствия и суда. Это вопрос факта. На практике обычно учитывают не только объективные признаки оскорбления (содержание и форма выражения – устная, письменная, конклюдентные действия; ее неприличность с точки зрения общепризнанных норм нравственности), но и субъективное восприятие оскорбительных действий их адресатом, индивидуальные особенности его личности.
В теории уголовного права предложено к тяжкому относить оскорбление родственных, национальных, религиозных чувств, выраженное в такой неприличной форме, которая отличается грубостью и циничностью (Э.Ф. Побегайло). Далеко не всегда оценка данного признака, а отсюда – и квалификация таких действий оказываются абсолютно безукоризненными.
Так, Верховный Суд России не нашел состава рассматриваемого преступления в действиях К., который нанес смертельные ранения П. за то, что последний в ответ на его приветствие заявил, что не желает знаться с «мусором». Верховный Суд указал, что такое оскорбление не может быть признано тяжким22.
В другом случае один из районных судов Псковской области осудил П. за убийство К. Последний после совместного распития спиртного сделал оскорбительное для П. предложение совершить с ним половой акт. Получив отказ, К. затащил ее в спальню, где, угрожая ножом, заставил совершить действия сексуального характера. В момент их осуществления П. схватила лежащий на столе нож и нанесла им несколько ударов потерпевшему. Суд не признал оскорбление П. тяжким и осудил ее за простое убийство. Псковский областной суд приговор оставил без изменения.
Лишь вмешательство Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ позволило расставить все точки над i по этому делу. Верховный Суд посчитал степень тяжести оскорбительных и унизительных для П. действий достаточно высокой, чтобы признать, что именно они внезапно вызвали у нее сильное душевное вполне. Действия П. были переквалифицированы с ч. 1 ст. 105 на ч. 1. ст. 107 УК23.
Вызывает, правда, недоумение тот факт, что в процессе исследования материалов данного дела ни один из судов не обратил внимание на то, что при описанных выше обстоятельствах здесь может идти речь и об убийстве при превышении пределов необходимой обороны. А если это действительно так, то и вменять П. необходимо было ч. 1 ст. 108 УК.
ПРОБЛЕМА. Применительно к убийству, совершенному при превышении пределов необходимой самообороны (ч. 1 ст. 108 УК), особое значение в судебной практике приобретает правильное определение момента начала и окончания посягательства. Известно, что правомерность необходимой обороны и превышение ее пределов возможны, по общему правилу, лишь в тот период времени, когда посягательство уже началось, но еще не завершилось.
Причинение смерти посягающему с выходом (в ту или иную сторону) за указанные временные границы обороняющимся означает несвоевременность защиты. Убийство потерпевшего при таких обстоятельствах должно влечь ответственность для «псевдообороняющегося» на общих основаниях, т. е. по ст. 105 УК.
В случае, когда посягательство окончено и отражено, но обороняющийся находится в состоянии аффекта, вызванного нападением, причинение им в этот момент смерти нападавшему следует квалифицировать по ст. 107 УК. Так, Верховный Суд России усмотрел признаки убийства, совершенного в состоянии внезапно возникшего сильного душевного волнения, в действиях С., который подвергся нападению со стороны В., ударившего С. штакетником по затылку и продолжавшего наносить удары С. по рукам. Последнему удалось вырвать из рук В. штакетник и нанести ему несколько ответных ударов. Затем С. бросил штакетник и, находясь в состоянии аффекта, схватил обезоруженного В. за шею и задушил24.
Таким образом, как «преждевременная», так и «запоздалая» оборона не имеют отношения к рассматриваемому составу преступления. Из этого правила есть два исключения.
Во-первых, состояние необходимой обороны может возникнуть не только в самый момент общественно опасного посягательства, но и при наличии реальной угрозы нападения, когда для обороняющегося становится очевидным, что потенциальная опасность сию минуту воплотится в действительность. Кстати, на это обстоятельство обратили внимание еще законодатели петровского времени. Например, в соответствии с Воинскими Артикулами обороняющийся не обязывался во всех случаях выжидать нанесения противником первого удара. «Однакож насупротив того, когда уже в страхе есть, и невозможно более уступать, тогда не должен есть от соперника себе первого удара ожидать, ибо через такой первой удар может такое учиниться, что и противиться весьма забудет»25.
Во-вторых, состояние необходимой обороны может иметь место и тогда, когда защита последовала непосредственно за актом хотя бы и оконченного посягательства, но по обстоятельствам дела для обороняющегося не был ясен момент его окончания. Переход оружия или других предметов, использованных для нападения, от посягавшего к обороняющемуся сам по себе не может свидетельствовать об окончании посягательства.
На практике приходится сталкиваться с ситуациями так называемой «мнимой обороны». Она имеет место, когда общественно опасное посягательство в реальной действительности отсутствует, однако в воображении виновного – наличествует. Ошибочное предположение о наличии посягательства заставляет его обороняться от несуществующего нападения.
В тех случаях, когда предшествующая причинению смерти обстановка давала основание полагать, что действительно совершается реальное посягательство, и лицо, лишившее жизни посягающего в порядке защиты, не сознавало и не могло сознавать ошибочность своего предположения, его действия следует рассматривать как совершенные в состоянии необходимой обороны. Если при этом такое лицо превысило пределы защиты, допустимой в условиях, соответствующих реальному посягательству, оно подлежит ответственности за убийство при превышении пределов необходимой обороны.
Так, Д., будучи в нетрезвом состоянии, около полуночи по ошибке влез через окно в дом С., полагая, что это дом его знакомой. Находившийся также в состоянии опьянения С. принял Д. за вора и стал его избивать, нанеся ему несколько ударов деревянной подставкой для цветов. От полученных повреждений Д. скончался. Пленум Верховного Суда СССР по этому делу отметил, что причинение при мнимой обороне потерпевшему вреда, явно превышающего пределы допустимого, должно быть квалифицировано как убийство при превышении пределов необходимой обороны26.
Наконец, в ситуациях, когда смерть «виртуальному» нападающему причиняется лицом, не осознающим мнимости посягательства, но по обстоятельствам дела обязанным и могущим это сознавать, действия такого лица подлежат квалификации по ст. 109 УК.
Например, находящийся в нетрезвом состоянии Р. ночью с угрозами стал ломиться в дверь к своему соседу по квартире С. Последний вылез в окно, побежал к своим родственникам и попросил их вызвать милицию, а сам взял охотничье ружье и вернулся домой. Увидев дома Р. в комнате у кровати, где лежат жена и сын, С. решил, что Р. «душит» их, и поэтому выстрелил в него. Суд расценил эти действия как неосторожное убийство, указав, что С., выстрелив в Р. при мнимой обороне, хотя и не сознавал, но исходя из обстоятельств дела должен был и мог при надлежащем уточнении обстановки сознавать, что общественно опасного посягательства в действительности нет









