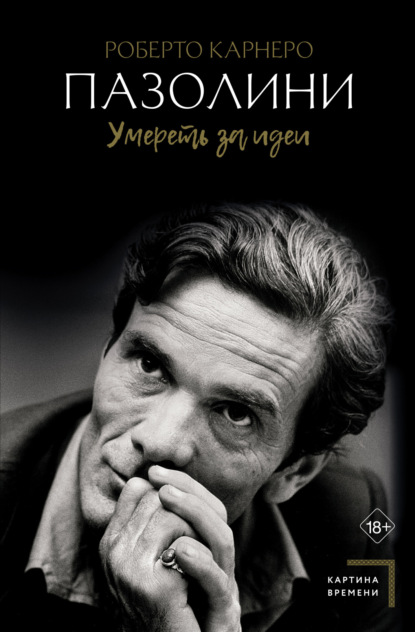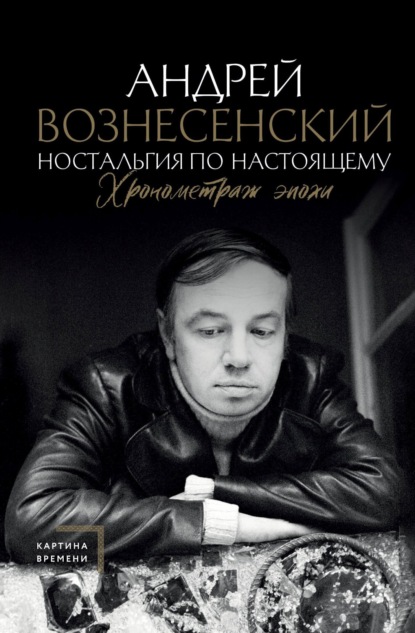Полная версия
Театральная фантазия на тему… Мысли благие и зловредные
Молодой интеллект студента должен впитать все основополагающие идеи и нюансы истории мирового искусства, располагая ничтожной стипендией. Он должен научиться организованно вписываться в недостаточно организованный процесс творческого поиска, работать по много часов, изучая одновременно окружающий мир и ресурсы собственного организма. Он должен поверить в их безграничность. Он должен научиться до конца дней наблюдать, коллекционировать сознательно и бессознательно разнообразные режимы человеческого поведения, свойственные людям, не имеющим отношения к театру. Людям, что по-другому говорят, ходят, жестикулируют, иначе берут дыхание в произносимой фразе, чем это делают среднестатистические артисты, по-другому используют тембральные возможности человеческого голоса, не обязательно стремясь во что бы то ни стало понравиться зрителям и насладиться звуками собственных голосовых связок. Артист высокого класса должен, помимо экстатического лицедейства, научиться производить двойственное впечатление на зрителя, который очень долго обязан не понимать, дилетант перед ним или гений. В конце концов, он должен приблизиться к категориям сверхчувствительного восприятия, научиться гипнотическому контролю над настроением зрительного зала.
Забегая вперед, скажу, что, по моим наблюдениям, приличным профессиональным артистом (не режиссером!) можно стать после двух лет интенсивной работы с хорошими (желательно талантливыми) педагогами, при наличии уникальной работоспособности, ума, неизуродованной наследственности, врожденной или благоприобретенной культуры (очень редко это случается) и обязательно близких людей незаурядного калибра, способных создать вокруг него питательную среду. Впрочем, найти чисто человеческие источники, которые, помимо родителей, напитают тебя не дурью, но благотворными идеями в широком спектре профессиональных и человеческих качеств, – задача, быть может, центральная, определяющая при рождении истинного Артиста.
Особую роль я отвожу возлюбленному или возлюбленной. От этой личности в одинаковой мере зависит и творческий рост, и профессиональная (человеческая) деградация.
Заявление, конечно, достаточно безапелляционное и, вероятно, насквозь субъективное, но личные многолетние наблюдения не позволяют мне скрыть это убеждение. Особенно велика подобного рода зависимость, по-моему, у мужчин. (Если жена (возлюбленная) еще и старше тебя, считай, тебе очень повезло.) Но, конечно, как человек, иногда проявляющий осторожность, скажу: точно не знаю. Впрочем, не только этого, но всего другого, о чем пишу.
Слишком долго рассуждать о серьезных, высоких материях скучно и даже опасно. Творческой личности необходимо тренировать себя на контрастах. Необходимо укреплять не только мускулатуру, но дотянуться до тех биологических механизмов, что выбрасывают в кровь адреналин, регулируют работу сердечно-сосудистой системы и мозговых нейронов. Система йогов для нас сложна и не слишком органична; элементарный, а за ним углубленный аутотренинг – то самое, что необходимо дерзающему дарованию. Тем более что после начала космических полетов российские ученые пусть с большим опозданием, но все же признали его строго научную ценность.
Все вышенаписанное есть типичное лирическое отступление. Теперь по делу – о желании молодого дарования приобщиться к современному актерскому или режиссерскому искусству.
Если талантливый абитуриент при поступлении в театральное училище или Академию одолеет экзамен по доминирующей дисциплине – мастерству, он обязан произвести выгодное впечатление и на других экзаменаторов. Это крайне важно. В какой-то степени это тест на проверку его воли, целеустремленности, даже профессиональной пригодности.
При поступлении в ГИТИС в 1951 году я, не скрою, пользовался шпаргалками. В средней школе у меня был учитель по математике, который ценил хорошо сконструированную шпаргалку, рассматривая ее как своеобразный конспект и, более того, удачно реализованный тест, оценивающий цепкость ума и склонность к аналитическому мышлению. В некоторых зарубежных школах учащиеся не знают наизусть таблицу умножения – им разрешено открыто пользоваться калькуляторами.
Я полагаю, что сегодня можно прийти на экзамен с маленьким портретом К. С. Станиславского, со словарями и многочисленными справочниками. Если этому воспротивится ваш экзаменатор, удивитесь, но не огорчайтесь. Существует множество надежных способов произвести на экзаменатора выгодное впечатление при неглубоких познаниях.
Перед тем как что-то сказать, постарайтесь очень тонко и осторожно продемонстрировать нездоровье и следы тяжелого материального положения. Хорошо во время экзамена будто бы незаметно принять лекарство. Если на заданный вопрос вы имеете хотя бы приблизительный ответ, не торопитесь подавать голос. Поднимите к потолку задумчивый взор, слегка сощурьтесь и изобразите, будто выбираете из множества полученных вами знаний подходящий вариант ответа, доступный экзаменатору. Дайте ему почувствовать, с легкой опечаленной улыбкой, все богатство и полифонию вашего неординарного мышления. Главное – создать ощущение, что говорю, увы, далеко не все, что знаю.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.